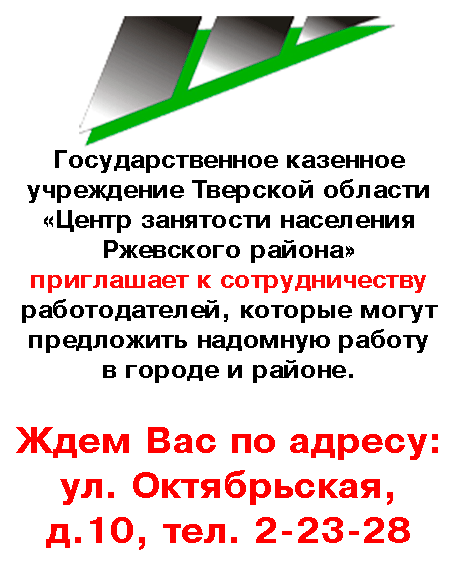ОНА БЫЛА ПРАВА (рассказ)

Окончание. Начало в N№ 9
Даже когда плакала от обиды за выволочку или переписывала в пятый раз перечеркнутый черновик под строгим маминым взглядом, даже когда прятала первые помаду и сигареты в сумочку, Ира знала, что мама всегда права.
Ира росла послушным, но совсем беззащитным ребенком. За такими, как говорится, нужен был глаз да глаз. Будучи домоседкой, которую за уши на улицу не вытянешь, умудрялась вляпываться в истории одна чище другой. С самого раннего детства. Хрупкость и молчаливость делали ее объектом защиты для отца и объектом неусыпного контроля и диктата со стороны матери. Они отыгрывали свои отношения на Иришке, любя ее глубоко и страстно. А потом появилась младшая сестренка. Ревности, кстати, ожидаемой, не было. Появился объект всепоглощающей любви, заботы, игры, заполнения вакуума общения.
Шли годы, сестры росли. Очень разными. И удивлялись стойкой и не понятной для них связи их матери с тетей Аней за тысячи километров. И поражались отношениям родителей. Когда идущий чуть впереди папа, под руку с мамой, вдруг мог обернуться и крикнуть дочерям:
— Девчонки, а правда наша мама самая красивая?!
Они делали круглые глаза, притворно удивляясь, и кричали радостно и в полной уверенности:
— Даааааа!
И реакцию мамы на выговор повзрослевшей старшей по поводу все более усугубляющегося пьянства отца:
— Поживи с мое, чтоб учить.
* * *
Она стояла у окна. Годы изменили окно и тюль. Внесли коррективы во внешность матери. Она повернулась спиной к двум женщинам, сидящим на диване, и молчала. Готовые к привычному монологу женщины молчали тоже.
— Почему ты нам не сказала, мама? Почему ты с нами не посоветовалась? — младшая всегда начинала первой. Не боялась. Никогда. Да ее и не воспитывали такими методами, как старшую. Ира считала, что у мелкой была защита в ее лице. Мать считала, что младшая самостоятельней, серьезней и ответственней.
— Мама, почему?
Она передернула плечами и начала:
— Мы так решили (четко слышалось: «Я так решила»), это будет лучше. А много ли вы в последнее время советуетесь со мной? Что я знаю о вас, дочери? Какие вы на самом деле? Насколько вам интересна жизнь родителей? Решено: мы разъедемся. Иван едет к матери, ухаживать за ней и домом. Вы же знаете, она осталась совсем одна. Я остаюсь здесь. Ты съедешься со мной, улучшим твое жилье. А тебе в другом городе вообще о чем беспокоиться? — бровь поднята, поворот головы царственный. Она всегда была права.
Старшая готова была уже сказать: «Я бы взяла папу к себе, пусть в тесную двушку, но… Папу». Но промолчала, как всегда. Маме видней. Все равно внуки всегда у нее, а так, вроде, и удобнее, что она одна тащит всё? Рядом будет мама, это же неплохо, мама все продумала. Только что-то болезненно тикало в висках, предупреждало, настораживало. Но она всегда была права.
Младшая вышла на балкон и закурила. Оперевшись грудью о перила, держа сигарету по-отцовски, приобнимая пальцами подбородок.
Отец приходил прощаться к каждой дочери. Отдельно. С подарками, неловко сунув их в руки внуков, неловко обняв горячо любимых внуков — трех парней. В кого вкладывал всю душу и сердце. Болел за кого так, как, может, и за дочерей не болел.
Старшая бросилась на шею и много говорила, уверяла, что будет на связи. Младшая…
— Ты писать не будешь, — не вопрос, утверждение.
— Нет, пап. Не буду.
Мужчина вздохнул еще раз, у самых дверей, погладил светлую головенку внука, обнял и поцеловал дочь. Не она его. Она будто замерла и одеревенела.
И в голове у Ивана пронеслось: «А она ведь тоже. Права. Как та. Права».
* * *
Наверное, она не могла бы рассказать, сколько раз менялась листва на деревьях за окном. Только в последнее время никого не было за спиной. Никто не вздыхал и не перешептывался. Никто не слышал ее слов. А она и не говорила уже ни с кем. Молча стояла у окна. Смотрела. Думала. Вспоминала. Она стояла у окна. И перед глазами проплывали не облака в небе и не машины по дорогам, а детство, юность, лица родных, уже покинувших ее.
Вспоминались рассказы сестры Нюры. И рассказы папы-фронтовика. Слова мамочки, что неоднократно повторяла и цитировала она своим дочерям. Как истину в первой инстанции. И она была права. А разве нет?
Голос Ивана, его васильковый взгляд, его руки. Вспоминала. Тосковала. Разговаривала с ним. Спорила, советовалась, жаловалась. Где он, как он, что с ним? Не писала, не звонила, ему заказала не сметь этого делать. Но тосковала. И оправдывала себя. Она права. Потому что, потому что права. Все ж согласились и приняли, значит, права. Но что-то давило, томило, тревожило, тяжестью лежало на сердце.
Когда-то она смеялась легко и беззаботно. Танцевала и порхала, пела звонко и радостно. Любила. Всю душу отдавала и мужу, и дочерям, и внукам. Всего себя лишила, всем пожертвовала ради них. Ничего себе не позволила. Даже… даже счастья? Даже его. А ведь оно и было. Всегда рядом, здесь, только руку протяни. Было.
Наказала себя сама. И другим в наказание себя вот такую отдала. Безупречную, сильную, серьезную, правильную. Хозяйственную, скромную, бережливую. Холодную, требовательную, неласковую. Вот так. Вот так. Наказала. Получалось, что наказала-то не себя, а любимых и родных.
Никому она этого не скажет. Никто не узнает о тоске и печали. Улыбалась внукам, забегавшим в гости. Улыбалась подругам, состарившимся, прожившим жизни трудные и суетные. Как и она. Да только смотрели они на нее как на удачницу, как на достойную уважения и восхищения женщину. По имени-отчеству называли даже ровесницы. И шла она, выпрямив спину, высоко подняв голову, по городу. Несла себя. Куда несла? Кто ждал ее дома?
Подходила к окну, замирала. И всем существом своим ждала Ивана, Иришку, младшую, внуков. Кого-нибудь.
И билась внутри ее маленькая девочка, оставленная в одиночестве на столе в пустой комнате, прячущаяся девочка в полутемном коридоре, молчаливая девушка, что стояла в одиночестве в зале суда, прикрывая руками большой живот, одна, когда зачитывали решение о расторжении ее никогда не существовавшего брака.
* * *
Звонок застал врасплох. Как гром среди ясного неба. Воздух со свистом покинул легкие, сжалось сердце и замерло. Все замерло. Старшая, прижимая трубку телефона к груди, затихшие на пороге своей комнаты внуки. Звонок. Ивана больше нет.
Она вопреки всему ждала его, надеялась, что не навсегда расстались они. Ни шагу не сделала. Но ждала, надеялась.
— Ваня, ой, Ванечка, Ваня, ой, больно! Ваня… — кричала, стонала, как тогда, давно в роддоме, зная, что под окнами стоит Иван, волнуется за нее. — Ваааняя… ой…
Первую дочь рожала в слезах. Иван сжимал в руках букетик цветочков, уже повядших, одеколоном командира обрызганный. И курил, курил, умирал за нее, со слезами вслушиваясь в голос.
Младшую рожала молча. Только кулачком стучала в стену, когда особо накатывала боль, темнело в глазах. Вот и получились дочери такие разные. У одной все наружу, все напоказ, а другая молчаливая, только кулачком в стену, когда плохо ей, когда никто не видит.
— Ваня, Ванечкааа. Ой, Ваня, — в голос, зажмурившись, привалившись на диван, обхватив себя руками. До синяков.
Она ждала встречи. Неведомо как и когда, но встречи. В этой жизни. Не договорили они, не дожили, не допереживали. Не захлопнута дверь была еще. Не повернут ключ в замке. Не уходил никто сам от нее. Она уходила. Но не в этот раз.
И дочери впервые за всю жизнь видели ее такую. Слабую, беззащитную, чувствующую. И молчали.
— Ванечкааа…
* * *
Первые месяца два он пил, без остановки, до бессознательного состояния. Не объясняя никому, что произошло. Как сошел с поезда, как приоткрыл калитку дома материнского, как сел за стол. Пил. Чтоб забыть. Чтоб боль ушла.
Не ушла. Вина оставалась, за все, даже за то, что и не делал. А уж за то, что натворил, тем более. И смотрели на него дочери и внуки с фотографии. И разговаривал с ними.
— Вот, Галк, вот так я теперь, вот так… — разговаривал с ней. — Вот так у меня дела. Не умею я без тебя, без вас. Совсем не умею.
Столько раз начинал писать письмо и откладывал. Писал, зачеркивал, переписывал, сворачивал уже и откладывал. Не посылал. Сказала же, что не надо. Она же права.
Хорошо. Девчонки с ней. Внуки. Он один. Заливал тоску водкой, ускорял уход. Торопился. Не хотел один быть. Не мог.
* * *
— Ну, придумал, как дочь назовем? — она выглядывала из окна, держа сверточек с дочерью в руках.
— Да! Давай Галиной назовем, хорошее имя.
— Да? Еще одна? Я ж у тебя Галина, — она и не знала плакать или смеяться.
Он удивился, оторопел. Как так? Галк, какая Галина? Да, Галина. Точно! Еще одна. Хотел-то сына, вместо того, первого, которого и не растил, видел два раза в жизни. Так хотел сына, что и имя для дочери не придумывалось, первое, что на ум пришло, выкрикнул. Надо же, Галина.
— Галк, к тебе хочу. Галк…
Ушел. Тихо. Сестра рассказала, что с улыбкой. Успокоенный, мирный. Как выдохнул и расправился. Поставил точку.
* * *
По подтаявшему снегу, спотыкаясь, шли две женщины. Спускались с горочки вдоль зданий больничного городка. Шли и, не стесняясь, в голос плакали. Ненадолго пережила мама отца. Ушла, как будто торопилась поскорее встретиться с ним. Тихо ушла, осознанно. Она была права и в этом.
Ванечка и Галочка жили не правильно. Жили первый раз, ошибались Ванечка и Галочка. Но так, как они, никто не произносил их имен. Никто не вкладывал столько любви и преданности, столько значения в эти слова.
Это история не для поучения и не для примера. Это простая история. О людях. О чувствах. О памяти. О прощении. И каждый в ней прав и не прав. Любить уметь надо. Когда-то сказала она ему. Сказала сама себе. И она была права.
Мила Меркулова