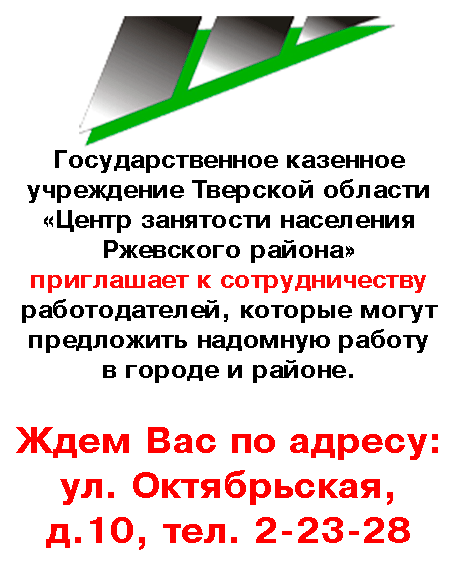Чувство Родины

Окончание.
Начало в N№ 6
Филлиса, слава богу, все мы прочли, равно как и еще пяток книжек, ставших лошадиной классикой. И все, что касалось режима и сохранения лошадей в работоспособном состоянии, знали. Теоретически. Готовы были бы и применять на практике (уж засечь продолжительность общей работы и отдельных составляющих ее аллюров мы были в состоянии), но сквозь толстый череп председателя эти сведения, даже переработанные до удобоваримого состояния, не проникали.
Проблемы с нашими лошадьми были не столь выраженными, если не поднимать их (то есть коней) в галоп. По-настоящему рискованной была только езда на Затоке — и закидки Вихря, и разносы Серого, и свечки Мамая не представляли угрозы для сколько-нибудь подготовленного (или «присиженного») всадника. А если лошадей работали только на шагу и рыси — это было и вовсе безопасно, и, пожалуй, даже скучновато. Мамай и Вихрь многократно привозили назад в конюшню абсолютно довольный благостный прокат, который пребывал в уверенности, что уже ездит самостоятельно на серьезных лошадях…
Тогда в клубе была эра строевых седел. Точнее, эра строевиков только наступала, и знаменовала она собой сезон сбитых спин. Начальство отчего-то решило, что в строевиках лошадиным спинам угрозы меньше, и велело всех пришедших с пастьбы лошадей седлать только ими. Надо отметить, что при работе рысью и галопом благие намерения превращались в кару небесную, нога всадника смещалась с наезженного «спортивного» места, попа шлепала, а корпус раскачивался. Более слабо, чем у спортивного седла, затянутые подпруги позволяли строевику слегка подпрыгивать, что заканчивалось новыми наминами, а время от времени и ссадинами — сбоем.
…Какие это были строевики! Бугристые, бесформенные, с перекрученными сыромятными путлищами, погрызенные мышами… Шлюсс после езды на таковых покрывался синяками произвольной формы, конфигурацией и количеством зависящими от покореженности покрышки седла. Но, тем не менее, распоряжение блюли и седлали строевыми седлами поверх сложенных одеял. Всех, кроме Хрыча, исключительные эксплуатационные свойства которого ставили его над обществом. Редко седлали строевиком и Мамая — бурые, сочного шоколадного цвета хвост и уши, выглядывающие из-под лук, смотрелись презабавно.
Жеребцам же избежать этого орудия пытки не удалось — до самой весны, когда слегка (чудом) поджившие спины были осмотрены Безымянной через решетку (в денники, особенно к Вите, она не заходила), и членам клуба было дано милостивое разрешение переходить на спортивные седла. После этого остатки ран затянулись в неделю и через две заросли белой шерстью.
Итак, я поседлала себе Звездочета, подтянула подпруги кочковатого пастушеского строевика и приготовилась следовать за Ольгой и Тошкой хоть на край света.
Тверская настроилась решительно. Тоша загарцевал, прянул от тяжелых железных ворот, зафыркал на проезжающую машину.
Найти места, пригодные для работы на галопе, в окрестностях фабрики, в населенном подмосковном городишке было непросто. Улицы, улицы, дома, постоянно гуляющие люди, мерзкие избалованные питбули и всякие терьеры с престижных дач… Коляски, мамаши, асфальт, заборы, тупики — да мало ли прелестей осложняют жизнь всаднику в городе, даже если это городишко вроде нашего! Чтобы добраться до мало-мальски пристойных мест — леса — приходилось убивать около 40 минут на одну только дорогу. Сделав резвые аллюры, ехали обратно — всего поездка занимала час сорок.
Чтобы ехать в Дальний лес, требовалось перебираться через железную дорогу возле станции Вялки и потом через Егорьевское шоссе. Я, одна, на Мамае, не рисковала ездить так далеко. Мамай шарахался от машин, и к тому же, я тогда еще не знала дорогу.
Тверская покосилась на меня с высоты своего седла. (На земле я была выше нее на 20 сантиметров, а сидя на Затоке она на столько же превышала наш совместный с Серым рост). Сказала:
— Поедем в поле за Дальний лес.
Ах, этот сухой твердый топот копыт по просохшей дорожке! Навстречу нам летели разноцветные листья подмосковного леса. Путь пролегал по людным, но довольно привлекательным местам — вдоль прудика, затем по березовой аллее, на которой, хвала всевышнему, сегодня никто не прогуливался. Заток разошелся, и я уже видела его нос, который Тверская почти что прижала к гнедому плечу. Звездочет на обгон не рвался — темп рыси, взятый пожилым ветераном, его устраивал. Еще на такт быстрее — и Серому пришлось бы скакать за Тошей галопом.
Мы перебрались через рельсы и шоссе, свернули в лес… Я боялась, потому что так далеко от конюшни мы заехали впервые, но одновременно сердце колотилось весело и радостно — наконец-то Ольга покажет мне волшебные тропы Дальнего леса, о которых я так много слышала, наконец-то мы проедем узкую лесополосу и я узнаю, что такое галоп в поле…
Дорога все не кончалась и не кончалась. Кони резво пожирали стометровки, то рысью, то коротким галопом — Тверская была мастером беречь лошадиные силы и никогда не расходовала их зря. Везде, где дорога становилась неудобной, мы шагали — а как же? И все равно, аллюров было много, гораздо больше, чем в каких-либо прокатах, больше, как мне казалось, чем я взяла за всю свою разнообразно-лошадную жизнь… А впереди было еще и поле.
Людей в осеннем лесу не наблюдалось, а красота бабьего лета делалась временами неописуемой. Горьковатый дух опавшей, свежей листвы кружил головы мне и Звездочету. Глубоко синее, странное небо с беспокойными редкими облачками волновало и навевало сказочные ассоциации. Я думала, что я и мой конь — просто ветер, спустившийся на дорогу, струящийся среди этих деревьев, для того, чтобы ощутить землю, бесшумно шагать, или ровно рысить по тугой, влажной под деревьями почве.
Возле мостишки через какую-то речку Тверская повернулась ко мне резко и торжественно.
— А теперь, — сказала она, — я покажу тебе Родину.
Сколько раз после этого я повторяла те же слова на том же месте!
Но в тот момент я улыбнулась. И слова прозвучали пафоснее, чем требовал того насыщенный ассоциациями фэнтэзи эльфийский подмосковный лес, и Тверская смотрелась забавно — на Тошке со свернутой шеей. Ольга не могли ни на секунду оторвать руки от повода, даже для того, чтобы отвести низко расположенную ветку с дороги.
Родина началась символически, с одной стороны — болото, в котором виднелась наполовину затопленная церквушка, с другой стороны — сплошной бетонный забор, обнесенный поверху колючей проволокой, гора ржавых тракторов и рессор к оным, плотный запах коровьего навоза. Родина? Как только я собралась пройтись насчет Родины, Тверская свернула с потресканного асфальта за угол вышеописанного забора.
Я думаю, что Родина для меня до сих пор лежит там, за разрушенной церковью, за колючей проволокой и кучей дерьма. Простите уж за грубую аналогию…
Всюду, куда хватало взора, — поля, поля, поля. Зеленые поля, расчерченные еле видными тропками, желтые хлебные поля, покрытые жесткой стерней, поля с пятнами осенних цветов, желтых, как солнце, и синих, как вода. Леса: почти черные ельники, костры рябины, золото берез. Удивительный дух, испарение земли и травы, удивительное синее небо, не перечеркнутое ни единым проводом.
Горизонт мягко выгибался бугром. Ни слева, ни справа — никаких признаков человека, кроме дороги, плотной, мягкой, песочной дороги, перерезавшей мир от точки под нашими ногами в бесконечность.
Заток захрапел, Тверская на секунде свесилась вниз — проверила, не соскочили ли бинты, и на пару сантиметров отдала повод. Гнедая молния устремилась по дороге. Я чуть придержала Серого, затем почувствовала мягкий толчок ускорения, и Санька вприпрыжку понесся за ветераном.
Обстановка подействовала и на него: на сей раз Звездочет глядел прямо, поставив уши торчком, и единственной его целью было… Нет, не догнать, — об этом не следовало даже думать, а просто не потерять Затока из виду. Заток несся с неудержимой мощью курьерского поезда. Вскоре Ольга свернула на луг, и мы со страшной скоростью понеслись вниз по склону: я каждую секунду ждала, что мы с Саней вот-вот полетим вверх тормашками, ноги заплетутся, как обычно… Одновременно я не переставала удивляться Затоку, — ай да Старый Хрыч! Ай да крылатый конь!
Это был один, упоительный, головокружительный, стремительный полевой галоп, который не омрачился ни чебурахнувшимся Серым, ни подвернувшейся ногой Затока. Тошка был готов нестись и нестись, до бесконечности, до полного изнеможения. Серый устал, плечи его из светло-серых стали голубыми, но и он готов был согласиться со мной, если бы я еще раз просила его о галопе. Но Тверская есть Тверская: мы шагали чуть ли не сорок минут, пока кони полностью не просохли, и я раза два видела, как Ольга поправляет взмокшую челку, бросив — о невероятное событие — одной рукой повод Старого Хрыча.
Трудно сказать, сколько времени продлилось освоение Родины. По ней — именно так мы окрестили эти леса и поля, так как Ближний и Дальний лес у нас уже были, — мы ехали около часа, но это был очень резвый час. Всего же акция демонстрации мне Родины (что Ольге с блеском удалось сделать, а потом много раз удавалось и мне), вылилась в три с половиной часа в седле. Недурно, а?
…Прошли годы. Я не знаю, что делается именно в тех полях, которые стали Родиной для конников из небольшого полунищего клуба. Тверская упала с разнесшим по льду Затока, сломала ключицу, с трудом добралась до конюшни. Стресс был так велик, что Ольга, доселе на нашей памяти всего дважды «сошедшая» с лошадей (и каждый раз это воспринималось как событие невероятного масштаба), бросила верховую езду. К тому же ее понукал недавно благоприобретенный супруг. Наш комиссар, маленькая стройная железная Ольга, стала женой и матерью.
Заток приуныл, так как этот непростой по характеру буденновец больше всего любил свист ветра в ушах. Стареющий Семен Залетный садился на Тошку все реже и реже, и совсем не так, как хотелось бы коню. На смену Тверской пришла милая Леночка Елецкая, нежная принцесса. Только она смогла работать гнедого ветерана нормально, потому что бог дал ей терпение, мужество и любящее сердце. И она падала с Затока — такова была карма каждого его всадника. И она позже покинула клуб, когда обстоятельства стали для нас неприемлемыми более.
Было замечено: Заток намного лучше чувствовал себя, когда работал в лесу, причем достаточно регулярно. Отеки волшебным образом спадали, он начинал тверже держаться на проседающих к земле бабках. Но после Леночки ездить на нем стало некому. Ушибы, раны, царапины заканчивались для Затока воспалениями и отеками. Ноги наливали и в конце концов бабки стали втрое толще положенного и твердыми, как полено. Заток тихо стоял в деннике, освоив на старости лет «медвежью качку», с интересом воспринимая каждого пришедшего к нему человека, ласково елозя отвисшими губами по протянутой руке с лакомством. Его время от времени выводили для того, чтобы покатать по кругу детей — в режиме «в руках». Не дай Бог отпустить… В конце концов он встал на бабки, и случайный собачий ветеринар «прописал» полную неподвижность… Затока перестали выводить из денника. Через четыре года после того, как Елецкая покинула клуб, Заток пал после продолжительных и бессмысленных мук. Умер своей смертью.
Дальнее поле, Родина… Да. Там он был Конем. Все мы скорбим о Затоке, но путь лошади всегда короче человеческого. Он бы многое еще смог, если бы остался в любящих руках, соединенных с мыслящей головой. Иногда мне кажется, что Заток, нежный и темпераментный одновременно, предвидел бесславный и мучительный конец пути.
Может, лучше было бы не останавливать его тогда, в полях, на Родине?
Наталия НЕСТЕРОВА