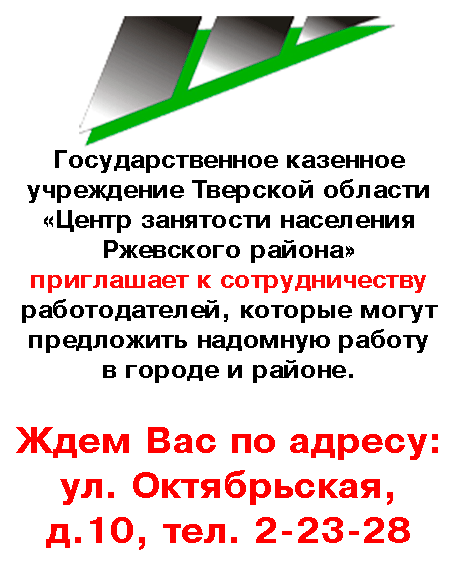Накукуй (Рассказ)

Ещё накануне вечером деду Степану захотелось грибов. Старик удивился: давно уже не знал он желаний, ел и спал скорее по привычке, даже газеты читал редко и без интереса. Тянул время, и время поддавалось. Дед не мог даже точно сказать, сколько ему лет. Восемьдесят четыре? Восемьдесят шесть? Девяносто? Иногда приходилось доставать паспорт — там всё было написано, дед читал, кивал, но через неделю опять терял счёт годам.
С пяти утра Степан Иванович ворочался на лежанке. Мысленно он уже шёл по тропинкам дальнего леса, покачивая тяжелеющий час от часу туесок. Грибной запах будоражил ноздри, старик отирал пот чистой тряпицей, поругиваясь, отгонял комарьё…
Дед сел на кровати. Покряхтел, нашёл подходящую для вылазки одёжу. Не переставая удивляться навязчивому и такому живому желанию, налил воды во флягу, завернул в бумагу хлеб с салом.
Степан Иванович прошёл по деревне не замеченный ни единой душой. Если кто и встал в такую рань, то не для того, чтобы посмотреть на одинокого деда.
Дорога в дальний лес шла через поля, некогда шумевшие колосьями, а нынче заросшие мелколесьем. В молодом лесу грибов было много, да несподручно было старику пробираться в частоколе тоненьких берёзок и осин.
Хотя было ещё прохладно, Степан Иванович шёл, отирая пот со лба, как в своём давешнем сне: возраст, которого не помнил старик, давал о себе знать. Степан в последние годы и выбирался-то только в сельмаг да на почту. Особенно торжественно шёл он на почту, нёс письмецо Игорьку, единственному своему племяннику. Раньше матери его писал, сеструхе своей, Татьяне… Игорёк никогда не отвечал старому дядьке. Степан как-то раз даже разговор заказал по межгороду, так Игорёк сказал, чтоб дядька звонил и писал, только когда помрёт, а раньше не надобно. Степан Иванович звонить перестал, а завязать с письмами не мог — слаб был, чтобы смириться с ненужностью, вот и уверил себя в том, что не так понял, не расслышал Игорька.
Часам к десяти добрался дед Степан до дальнего леса. Увидел, что состарился тот со дня, как старик в послед-ний раз на тихую охоту выбирался. Замшел, поредел, у опушки сухие стволы лежат, тропинок не видать. Побродил дед вдоль кромки леса, повздыхал о былой его стати да пригожести, об аккуратных тропках да грибниках-товарищах, кои уже в сырой земле покоятся… Присел на поваленный голый ствол, изглоданный ветром да солнцем, что кость дворовым псом. Боязно было Степану: не узнавал он леса, да и в себе не чувствовал сил. А желание ощущал остро, даже чуть злился на себя: вот, мол, дурень старый, грибков жареных приспичило поесть; сидел бы в избе, целее был бы. И сам себе отвечал: кому ты целый нужен, Стёпка; помрёшь, мож, хоть тогда Игорёк навестит, участок-то с домишком ему отойдут. Горестно стало Степану Ивановичу от мыслей этих, но он прогнал их, как назойливых жирных мух, наглеющих до безобразия в летнюю пору.
Съел старик кусок хлеба с салом, приметил, где солнце стоит, да и двинулся потихоньку вглубь леса. Решил до первой поляны с лисичками дойти, на жарёху грибов набрать, и сразу назад. И удивительно было Степану Ивановичу: тишина стояла в лесу, как говорят, мёртвая. Старик поначалу грешил на слух — глухой ведь почти, даже аппарат слуховой выписан, да только зачем: разговаривать особо не с кем. Шёл дед Степан в полной тишине, уткнулся в валежник из высохших еловых веток и сучьев. Потоптал сухие ветки — хрустят. Значит, с ушами всё как прежде. Куда же лесной народ подевался? Ни мышь не прошуршит, ни птица не вскрикнет. Зябко стало Степану Ивановичу, захотелось повернуть назад и… не побежать, конечно, какой бег в его годы, но пойти без передышек, как можно быстрее к дороге, к молодому леску, к деревне. Старик достал тряпицу, промокнул взопревший лоб и зашагал дальше.
Опять вышел к валежнику. Похрустел ветками. Принял чуть левее, неспешно продолжил дорогу, хотя дороги-то никакой не было. И через несколько минут вернулся на то же место. Нехорошо стало деду Степану, совсем неспокойно. Сейчас он мог бы уже пересилить грибной зов, пусть тот и не уходил, не отпускал старика. Степан Иванович, знай хотя бы примерно, где опушка, от которой дорога приведёт домой, ушёл бы прочь в ту же секунду — так жутко было плутать кругами. Но он не знал. Солнце, как назло, спряталось за плотные тучи, и сквозь кроны проглядывала сплошная стальная пелена. А ведь с утра ни облачка на небе не было… И тогда дед пошёл наугад, напролом через пригорки и рытвины, проявляя поразительную прыть.
На этот раз злополучная сухая куча показалась гораздо быстрее. Что за чёрт, подумал Степан Иванович и тут же приглушил мысль. А вдруг услышит тот, кого он поминает? И всплыла откуда-то из глубин памяти сценка: маленький Стёпка с матерью и сестрой Танькой шагают к дальнему лесу, тогда приветливому и щедрому. Мать одёргивает ребятишек у опушки, велит: «Хозяину-то поклонитесь, попросите добро на грибы, да угощение оставьте». И Стёпка с Танькой послушно кланяются, достают из карманов кусочки сахару, хлеб, вслед за матерью кладут угощение у корней корявой сосны и слегка испуганные, но довольные сделанным идут дальше. И потом, сколько себя помнил, входил Степан Иванович в лес только после поклона да мысленного разговора с хозяином-лешим, после подарка ему — хоть конфеткой, хоть яблочком.
Дед опустился на мох у кучи валежника, запустил руку в туесок, зашуршал бумагой. Пусто. Сам всё съел, ничего лешему не оставил. Тоскливо стало Степану Ивановичу, тоскливо и стыдно за свою старческую забывчивость, за рассеянность и слабость. Грибочков захотелось, аж спать не мог! А подумать да сделать как велено, как положено, недосуг было! И с горечью обратился он к лешему:
— Не гневись, хозяин лесной, старый я стал, глупый. Уж ты выведи меня из своих владений, не дай заплутать.
Прислушался дед Степан. Не кругом слушал он, а внутри, в голове, в сердце отклик ловил. Раньше-то, как угостит хозяина, так сразу спокойствие в душе разливается, и ноги сами к полянке грибной ведут, и петь хочется. Сейчас не было этого. Ничего не было, лес молчал, молчал давяще, тяжело, неотвратимо.
И старик вдруг понял — нет больше хозяина в дальнем лесу, ничей он стал, одинокий, ненужный, как сам дед Степан. Глаза заслезились, поползли едкие капли, будто норовя проделать новые борозды морщин впридачу к десяткам старых. Степан Иванович закрыл лицо руками.
Хуже нет дела, чем в мёртвый лес зайти. Мёртвое в себя впускает, а обратного хода никогда не даёт. Не зря деревенские путь сюда забыли, всё по мелколесью ходят, в дальний лес не суются. И не от лени это. Чувствуют, видать, что живому здесь места нет.
Степан Иванович отнял руки от мокрого лица и неожиданно для себя взбодрился. От судьбы, чай, не убежишь. Никто его сюда волоком не тянул, сам пришёл.
Будто в ответ на здравые размышления деда раздался звук. Первый за всё время в лесу, оттого особенно громкий. Старик вздрогнул, взялся за сердце и завертел головой. Осмотрел верхушки ближних деревьев, прошёлся взглядом по поваленным стволам, по кустам, растущим в сторонке. Не показывается. Не хочет, чтобы видели его. Кукует себе и кукует, без выражения, на одной ноте. Самец кукушки, когда зовёт подругу, то приостановится, то зачастит. А та не умеет ответить так же выразительно, свистит по-своему, не кукует.
Степан Иванович никогда не спрашивал кукушку, сколько лет ему осталось. Но теперь, сидя в мёртвом лесу наедине с птицей и почти уверясь в скорой гибели, старик хрипловато и тихо, стесняясь собственного страха, проговорил:
— Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?
И начал считать. Когда птица отмерила деду Степану первый десяток лет, старик приободрился: уж если столько на веку написано, то сейчас в лесу не помрёт, доберётся как-нибудь до деревни. Когда кукушка огласила следующие двадцать лет, дед раздосадованно крякнул: ишь, разошлась. Но бесстрастное кукованье продолжалось и продолжалось. Степан Иванович закрыл уши, просидел так, сколько мог, но и после перерыва невидимая кукушка продолжала мерить век старика. Дед встал, побрёл наугад к показавшемуся спасительным просвету, но кукушка не отставала, следовала по пятам с неотвратимым «ку-ку».
И тут старик вспомнил рассказ своего деда, дряхлого уже тогда Матвея Степановича. Дед Матвей говорил, что гадать да задавать вопросы неведомому, невидимому, непонятному простым людям — грех. Кто узнает то, чего знать не должен, тот от знания своего скоро состарится. Дед Матвей вздыхал, бормотал что-то и поплёвывал за плечо, а маленький Стёпка думал, что никогда не будет задавать вопросы неведомому, потому что состариться, скукожиться как дед Матвей — страшно.
Но вопрос был задан, и ответ был дан: вечность накуковала кукушка старому Степану. Вечность в этом лесу.
И дед смирился — от судьбы не убежишь, особенно на немощных стариковских ногах.
Спустя время в дальнем лесу старые деревья разродились отпрысками, мох и лишайник упокоились под молодой травой, в кронах разнеслись птичьи стрёкот и переливы. Деревенские вспомнили, что в дальнем-то лесу всегда полянки с лисичками водились, и пошли парами, группами туда мимо мелколесья. Кто с угощением приходил, тому хозяин Степан всегда полные корзины грибов уносить давал. А если и забывали приветить лешего, Степан Иванович не серчал, было у него забот на целую вечность — лесу без хозяина нельзя. Птица, зверьё от мёртвого, бесхозного места бегут. А чтоб назад их вернуть, постараться надо. Звери тоньше людей жизнь чувствуют.
Раз лишь взволновался леший Степан: когда вошёл в его лес племянничек. Приехал Игорёк с женой за наследством, за землёй да домом. Жена осталась вещи стариковские выкидывать, а Игорёк прогуляться пошёл. Очень ему грибов захотелось, ещё вечером.
Долго водил Степан племянника по своим владениям, показать хотел: вот, мол, какой простор, вот как живу я теперь, а дома мне не жалко, владей, родной. И кукушка та самая за лешим летала, вопросительно посматривая на хозяина. Игорёк ходил по лесу, сбивая тяжёлыми башмаками мухоморы, ломая ветки, обмахиваясь ими от комаров и тут же кидая наземь. Игорёк был доволен: старый хрыч наконец помер, не будет больше донимать своими письмами, а земельку можно дачникам впарить, на новую тачку хватит.
Немило лешему было слышать мысли Игорька, но ещё хуже смотреть, как сорвал племянник птичье гнездо, швырял на землю пивные бутылки и упаковки от чипсов, а окурок, брошенный в муравейник, чуть не занялся пожаром. И когда кукушка вновь посмотрела на хозяина, он молча кивнул: накукуй ему, милый, накукуй вечность. Здесь мы его не оставим, но и среди людей ему не место, ты же видишь.
Игорька нашли спустя два дня. Городской хлыщ сидел на грибной полянке, хихикал и повторял: «ку-ку, ку-ку, ку-ку…».
Екатерина БЕЛОУСОВА