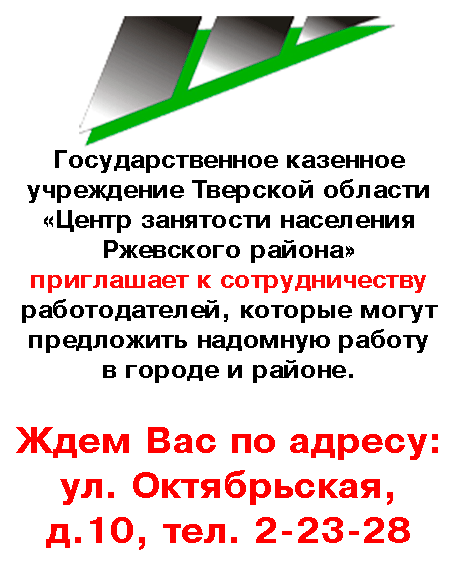Александр ФЕДЕНКО. Рассказы

Новая жизнь
В понедельник, в час тридцать дня, Люба Кочерыжкина почувствовала себя дурой — подруги обсуждали последние достижения женской передовой мысли, а Любе нечего было сказать. Из разговора Люба поняла главное — женская передовая мысль шагнула далеко вперед, а Люба — не шагнула.
Положение рисовалось катастрофическое — со всех сторон выходило, что Люба Кочерыжкина, исключительно по глупости считавшая себя человеком счастливым, живет зря, да и вовсе не живет, а лишь волочит на себе цепи и вериги давно упраздненного мужского деспотизма и собственной некультурности.
Громыхая цепями, Люба поплелась домой — в узилище никчемной жизни своей.
По пути к узилищу она остановилась у киоска и купила женский глянцевый журнал — Люба была не такой человек, чтобы капитулировать, пусть и при всей очевидности уже состоявшегося поражения. Она решила бороться за свое счастье, чего бы это ни стоило и каких бы жертв ни потребовало.
Налепив котлет, Люба взяла в руки глянцевитое скопище недоступной ей ранее тайной мудрости и испытала восторг от близости своего интеллектуального прозрения. Затаив дыхание, она открыла первую страницу и ступила в мир, суливший ей новое, недоступное доселе счастье.
Мир распахнулся удивительными видениями белозубых ртов, крепких ягодиц, шипением шампанского, разбиваемого о борт океанской яхты, возбуждающим запахом типографской краски и ласкающим прикосновением гладкой бумаги к кончикам пальцев. Люба Кочерыжкина пошла по этому миру, как разведчик по вражеской территории, уворачиваясь от коварно поджидавших ее, полных жизни ягодиц и белозубых ртов, раскрывающих объятия при виде ее. Каждый поворот таил опасность, но и обнаруживал неожиданные, неизменно радужные перспективы.
Перспективы уже к десятой странице обернулись грудой исторгнутых из шифоньера и приговоренных к вечному забвению блузочек, юбочек и платьишек.
— Мне совершенно нечего надеть! — подытожила Люба, намертво завязывая тюк со списанной одеждой.
Еще через пять страниц был вынесен и приведен в исполнение другой приговор — в мусорное ведро отправились котлеты, где в сомнительном окружении предались несбыточным мечтаниям.
Но главное прозрение ждало Любу на двадцать седьмой странице, и, прозрев, Люба Кочерыжкина поняла, что стоит всеми ногами в пропасти.
Двадцать седьмая, трагическая, страница объясняла, что счастливый брак рано или поздно рухнет, если не обсуждать проблемы, неминуемо возникающие в жизни узкоэгоистических супругов. Иван Кочерыжкин, многолетний муж Любы, и Люба за все годы своего священнодейственного союза не обсудили друг с другом ничего достойного того, чтобы называться семейной проблемой, и тем самым не остановили — теперь это делалось очевидным — тихо надвигавшееся несчастье. По крайней мере сейчас, истерически теребя свою память, вспомнить что-то обнадеживающее не получалось.
Иван Кочерыжкин явился после работы домой и сразу прошел за стол — он всегда, являясь в дом, даже в посторонний, усаживался за обеденный стол. Не обнаружив там любимых котлет, он удивился, но не придал этому исчезновению глубокого содержания. Меж тем содержание было — оно явилось в образе паровых биточков из шпината и в виде многозначительно подпудренного лица Любы, нависшего над биточками, как гарнир к блюду.
Оглядев портрет-натюрморт с видом столичного жителя, заскочившего в музей погреться, — говоря проще, проявив равнодушие к замыслу автора, к неподражаемой игре красок пропаренного шпината и к выверенным мазкам теней под глазами, — Иван Кочерыжкин достал полдюжины сосисок, сварил их и начал есть, чем поверг Любу Кочерыжкину в окончательное трагическое состояние. Губы ее задрожали, руки сплелись в болезненный узор, напоминавший своими переплетениями удава, попавшего под колесо брички и замысловато намотавшегося на спицы.
— Дорогой, — супруга накинула на удава еще один двойной рыбацкий узел, — тебе не кажется, что стена непонимания, вознесшаяся между нами… — Иван, не переставая жевать, оглядел стены в старых обоях под мрамор, — …эта стена может рухнуть и придавить нас?
Лицо Ивана Кочерыжкина прекратило уничтожать сосиску, напряглось и обратило непонимающий взор на Любу.
— Мы должны обсуждать наши проблемы, а не заедать их, — развила Люба мысль отрепетированным козырем. — Признайся, у тебя есть проблемы?
По лицу супруга пробежала тень невысказанного переживания.
— Ты должен открыться, пока не поздно!
Кочерыжкин открылся:
— Котлет охота.
И откусил сразу половину сосиски.
Люба поняла, что супруг не хочет помогать ей в спасении брака. Испытав приступ отчаяния, она подумала даже броситься под поезд, но ближайшая электричка шла лишь утром. Лежать всю ночь на путях — глупо, рассудила Люба и отложила решение железнодорожного вопроса до воскресенья: в воскресенье проходил вечерний скорый на Ростов.
Неделя ушла на поиск проблем, коварно скрывавшихся и прятавшихся в трещинах их матримониальной жизни и все явственнее раскалывающих ее изнутри. Но проблемы не обнаруживались, хотя на их наличие явно указывал рост этих самых трещин. Зато каждый вечер обнаруживался муж и хоронил в сосисках потерянное семейное счастье.
В субботу Люба Кочерыжкина махнула на свой бесповоротно рухнувший брак рукой и на прощанье нажарила котлет.
В воскресенье с утра Иван Кочерыжкин содрал со стены обои под мрамор, оголив унылую серую штукатурку, и вместо них поклеил новые — с васильками.
А через месяц Люба и Иван Кочерыжкины, пышущие свежим счастьем, сели на пароход и отправились в путешествие по Волге. Перед отплытием Иван зашел в газетный киоск на пристани и купил выдержанный в многообещающих тонах журнал для мужчин. Он почувствовал, что обновленная жизнь требует от него новых соответствий.
Тайная жизнь Гены Хомякова
Гена Хомяков неожиданно для себя влюбился в Любу. С первого взгляда. Вернее сказать — со второго. С первого взгляда у него только коленка зачесалась. Потом зачесалось в носу, и он чихнул. Проходивший мимо гражданин сказал «будьте здоровы» и плюнул под ноги Хомякову. Хомяков, переведя взгляд на гражданина, а потом вернув его обратно на Любу, сказал «спасибо», влюбился окончательно и зачесался уже целиком.
И не было бы ничего примечательного в этом — мало ли граждан ходят и плюют под чужие ноги, — деликатность в том, что Гена влюбился во сне. Ехал в метро по кольцевой, задремал под грохот уносящегося тоннеля, увидел Любу и влюбился. В этот момент ему наступили на ногу, и он проснулся, и остался в неведении относительно взаимности взыгравших чувств.
На службу Гена Хомяков прибыл в кипении надежд и брожении сомнений. К счастью, началось необычайно важное совещание, и Гена на нем уснул. Как раз вовремя — Люба заходила в седьмой подъезд старинного замка. Гена, манкировав собранием столь изощренно, успел заметить ее длинный красный шарф, догнать и уцепиться за него. Шарф стелился по лестнице и привел его на последний этаж, к двери черного дерева. Гена постучал. Дверь открылась. Люба стояла перед ним в откровенном естестве, плавно переходящем в естественную откровенность. Нагота была не столько скрыта, сколько подчеркнута красным шарфом, наброшенным редкими кольцами на Любу, как удав на березу. Гена потянул за другой конец шарфа, который сжимал все это время. Шарф начал опадать. Кто-то потряс Гену за плечо. Хомяков повернул голову…
…и открыл глаза. На него смотрели с нескрываемым осуждением постылые, душимые завистью сослуживцы.
На обратном пути в вагоне топтались так, что отойти ко сну не удалось. Он раз за разом закрывал глаза, видел удава и был будим очередным наступанием на ногу.
Гена приехал домой злой. Аглая Хомякова, законная супруга, сунула ему под нос тарелку щей и скрылась в опочивальне. Гена осторожно приоткрыл дверь. Осмотрел спящую Хомякову. Нечто новое увидел он в ее неподвижном теле — заскорузлая, безнадобная неинтересность поселилась в нем.
Хомяков лег рядом и смежил очи.
— Ты бросил меня? Где ты был все это время?
Люба сидела в бесстыдном халатике, закинув ноги на подлокотник кресла, и строго смотрела на Хомякова. Гена поинтересовался взаимностью чувств.
Люба призналась, что беременна. Хомяков такому положению удивился, сказал, что предпосылки, конечно, были, но ничего, кроме шарфа на березе, он не помнит. Люба зарыдала. Пришлось жениться.
Свадьбу Гена тоже упустил. В том смысле, что она была, но в памяти не отложилась.
Тайная жизнь оказалась слишком тайной. Многое проходило мимо, о чем Хомяков узнавал только со слов Любы. Он стремился чаще бывать с ней, ловил любую возможность забыться сном, чтобы повидаться, прикоснуться, урвать мгновение небытия. Но реальность жестоко навязывала себя, неизменно разлучая с любимой женщиной. А затем и вовсе ворвалась в сон.
— У тебя другая — я чувствую, — сказала Люба. — Женское сердце не обманешь.
И заплакала.
Гена не знал, как объяснить истинное положение вещей. Да он и сам уже не понимал его.
— В этом мире у меня нет никого, кроме тебя!
Но Люба не верила.
— Ты все время куда-то исчезаешь! Где ты пропадаешь, когда не со мной?
Гена сбивчиво бормотал про службу, совещания, переполненное метро и относительность всего сущего.
Аглая тоже заподозрила его в неприличной связи и перестала кормить щами.
Гена начал чахнуть. Явь и сон Хомякова превратились в ад. Он допоздна сидел на службе, прячась от Аглаи, и стоически бодрствовал, чтобы не провалиться в мир Любы, скользкий от слез и подозрений. Но Морфей настигал его своими объятиями. И вот Гена спускается по лестнице в подвал, упирается в черную дверь, обитую дерматином, открывает ее. Лицо женщины, склоненной над детской колыбелью, молча и зло смотрит на него. Гена ложится на софу, сворачивается, как младенец, и засыпает, но его тут же будит удар в плечо. Он оборачивается и видит Аглаю, спящую рядом и растущую во сне, заполняющую собой всю кровать, всю комнату. Гена, припертый в углу, выпрыгивает в окно и падает. Каменная стена старинного воздушного замка проносится мимо.
Темно. Кромешная мгла. И сыро. Слышно, как капает вода. Падающие капли и неловкие шаги Гены гулко отзываются в сжимающей его темноте. Вдалеке появляется что-то светлое. Оно растет и грохочет. Округлые своды тоннеля высвечиваются несущимся навстречу фонарем поезда. Гена бежит от него изо всех сил. Но сил мало, он ослаб, он давно не ел щей, он никогда не ел щей. Но он убежит, он знает, что убежит, нужно только…
Что-то вцепилось в ногу и опрокинуло Гену — длинный красный шарф. Он тянется в глубь тоннеля и держит Гену. Свет поезда совсем рядом, стремительно приближается, несется, заполняя собой все вокруг.
…
Гена приподнял голову. Потолок с тонкой трещинкой в побелке — надо замазать. Светло.
Катенька, биоробот давно не выпускаемого, седьмого поколения, заметила его движение и отложила в сторону пряжу.
— Боялась тебя разбудить. Выспался?
Гена улыбнулся. Откинул одеяло и встал. Подошел к Кате и обнял ее. Молча, со скрипом заковылял в уборную.
— Осторожнее, — привычно сказала Катенька.
Гена задел плечом выцветший шкаф — левая глазная матрица безнадежно сбоила, и он часто натыкался на мебель. Потерев облезлый никель плеча, он похромал дальше. Проходя мимо горчичного тона фотокарточки на стене, поправил ее, хотя она висела ровно.
Он был счастлив.