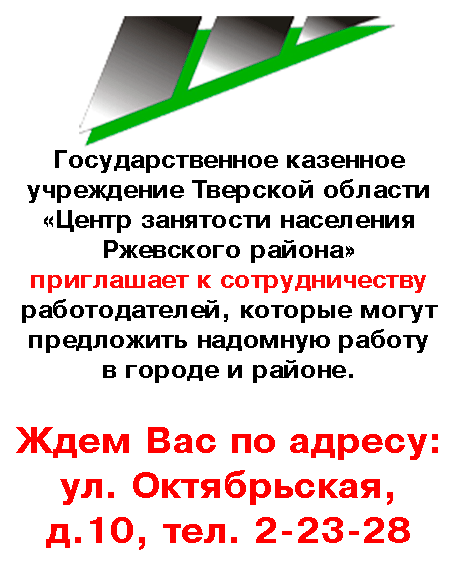Переселенцы

(отрывки из книги «Переселенцы
от Владивостока
до Калининграда»)
В 53-м году наша семья выехала из Владивостока в Москву. Ехали ровно двенадцать суток. Мне тогда было десять лет. Моему брату — двенадцать.
Эта длинная дорога через всю страну сделала меня путешественником на всю жизнь. Еще в те несмышленые годы понял, как огромна и многолюдна наша земля.
Перед отъездом я хорошо запомнил разрушительное землетрясение на Курильских островах. Всех пострадавших тогда вывезли во Владивосток, обеспечили жильем и работой. Верхне-Портовая была шумной, людной и не очень благоустроенной улицей. Но люди жили дружно, ходили в гости друг к другу. В те дни я слышал, что собрались провести от вокзала до виадука трамвайную линию. Мы долго ждали этого и не дождались. От этой затеи отказались, видимо, потому, что этот портовый район решили оставить как заповедный уголок первозданной природы. И действительно — этот полуостров Шкота с мысом Эгершельда, этот портовый район, где в основном жили грузчики, рыбаки, моряки, где сохранился дом, в котором я родился, отличаются завидной тишиной, малолюдьем и своеобразием ландшафта. Особенно это заметно сейчас, тридцать пять лет спустя.
Именно здесь и только здесь я мог расти крепким, подвижным, полноценным ребенком. В загазованности, шуме и толкотне я бы, наверняка, был другим или вообще не выжил. Именно в такой обстановке сейчас рождаются хилые телом и слабые духом дети.
Моя мать родилась в одной из деревень Калининской области, в царстве льна. Ей не было и двадцати, когда захотелось повидать мир, побывать на краю Ойкумены. Вот и решила она завербоваться во Владивосток. Была она красивой, общительной девушкой с твердым характером. Со временем в нем появились властность и раздражительность. Ну а пока она об этом не знала, не ведала. Любила посмеяться, пошутить, подтрунить над особо ретивыми ухажерами. Ее острого языка боялись. Она была во всем дерзкой, прямолинейной и трудолюбивой до фанатизма и всегда во всем старалась быть самой первой, самой красивой, самой умной.
Приехав во Владивосток, мама устроилась буфетчицей в маленький павильончик возле транзитной железнодорожной станции на мысе Эгершельда. В военные годы эта работа помогла нам прокормиться и спасла от хилости наши тела и души. Даже в самый тяжелый год, когда родился я.
Но однажды матушку ложно обвинили в каком-то воровстве и посадили за решетку на несколько месяцев. Сколько она тогда перестрадала, передумала! Нас с братом оставили на чужих людей. А когда она вернулась, я едва дышал и был чуть тепленький от голода и холода. Мама вынуждена была уволиться с работы, искать другое место. Началась полуголодная жизнь.
В те годы Владивосток снабжался одеждой, сгущенкой, тушенкой и студебеккерами производства США. Но продукты распределялись неравномерно. Военным перепадали лучшие куски. Правда, они, как могли, делились пайком с гражданским населением, особенно с детьми.
Мой отец в звании старшины был направлен на фронт. Шла Великая Отечественная. И домой не вернулся. После войны нам пришла телеграмма: «Пропал без вести». И мать осталась одна с двумя детьми на руках.
У отца была одна страсть. Он любил играть на мандолине. Репертуар был небольшой и доходчивый: народные мелодии, припевки, частушки. Но со временем и это забросил, потому что моя мать часто подтрунивала над этим увлечением. «Все это забава, баловство, — говорила она. — И не для настоящих мужчин. Другое дело — двухпудовые гири. Ты играешь ими, как мячиками. И тогда я тобой горжусь».
Неуклюже застенчиво, как юноша, он отвечал ей:
— Спасибо и за это.
На фронте отец был палочкой-выручалочкой. По раскисшим дорогам, увязая в грязи, тяжело ползли грузовики. Они буксовали на каждом шагу и не хотели идти даже под напором множества крепких рук и плеч. В этот момент искали моего отца. И с его помощью вытягивали любую машину. За эту богатырскую силу его любили и боялись.
Мой отец был очень застенчивым, стеснительным, малообщительным человеком. Эти качества раздражали мою мать и нередко толкали на крайности. Она считала его растяпой, тюфяком. Но будь он другим человеком, она бы его не любила. Все говорили ей в глаза, что у нее идеальный муж, и она гордилась этим…
Итак, двенадцать суток мы ползли до Москвы. Эта дорога потрясла меня настолько, что я считал себя первооткрывателем мира, которого не знал, который знали другие. Здесь я открыл себя. Здесь я открыл других. Здесь я открыл космос.
Мы медленно ехали по стране, еще охваченной во многих местах морозами, снежными метелями, энтузиазмом строительства и учебы. Я лазил по вагонным полкам, как счастливая обезьяна. Я был впервые одержим духом бродяжничества.
А в дальний путь на родину мамы мы собрались не просто так. В последнее время из далекой деревни пушкинского Верхневолжья стали чаще приходить письма от нашей бабушки, маминой мамы. Она просила, требовала, чтобы блудная дочка вернулась в родные края. И дочь стала собираться в дорогу. Разве мы могли этому воспрепятствовать? Как не хотелось нам расставаться с морем, но все-таки пришлось.
Мы распрощались с детством, и жадно, пылко, с открытым сердцем и душой, ринулись в мир отрочества и юности. Хорошо помню, как грохотал наш поезд по длинному мосту через Амур, как упивались мы красотой озера Байкал, где с одной стороны над нами нависали скалы, а с другой — почти крутой обрыв над водой. С замиранием сердца мы прислушивались к стуку колес и страшно боялись, что эти глыбы могут упасть на нас.
В Улан-Уде стоял сильный мороз и мела метель. Здесь была короткая остановка. Мы требовали еды. И мать, помню, принесла нам с перрона килограмм свежемороженой ливерной колбасы. Мы набросились на нее, как голодные волчата. А мать глядела на нас и украдкой плакала. Через три дня в поезде объявили: «Умер Сталин!». Я сразу начал задавать каверзные вопросы, и на меня зашикали.
Наш поезд плелся, как черепаха. Казалось, не будет конца этой дороге. Но это было только начало жизни. И я глядел на нее жадно, как голодный щенок на свежий, пахучий кусок мяса.
Москва меня потрясла. Я нигде и никогда не видел такого скопища людей. Я нигде и никогда не видел таких огромных красивых вокзалов, такого количества автомашин и поездов. Мы страшно устали. Хотелось скорее в деревню, к бабушке и тетушке.
С Рижского вокзала на рижском поезде мы ехали еще семь часов. И в три часа ночи вылезли на маленькой станции Зубцов. Мела снежная поземка, привокзальные фонари с трудом пробивали эту снежную круговерть. Нас встретила высокая и худая старуха — это и была наша бабушка. Она сразу посадила нас в сани-подводу на пахучее сено и накинула на плечи тяжелые, длиннополые тулупы. Лошадка побежала рысью. Мы пригрелись. Метель больше была не страшна. И поездка на санях начинала казаться даже интересной.
Зато снег и ветер хлестали в лицо матери и бабушке. Старуха-мать слабо держала вожжи и вся отдалась душевному разговору. Лошадь не надо было понукать. Она прекрасно знала этот большак и сама несла нас к дому. Эта любовь людей и животных была сильнее метелей и морозов.
Мы впервые оказались на Валдайской возвышенности. Подслеповато глядели окна деревень с чисто русскими названиями: Ботаково, Коровкино, Коробино, Конопатино, Шебекино, Костино. Здесь вставали очень рано, особенно доярки. Теперь отдельные деревни опустели, люди подались в города.
Мы наоборот приехали из города в деревню. Лошадь, вся белая от снега, остановилась у последней избы. Здесь было более двадцати дворов. У всех — просторные хаты, а у нашей старушки избенка оказалась такой тесной, с таким низким потолком, что даже мы, войдя, ударились о дверной косяк и вынуждены были сгибаться под закопченной лампочкой. Здесь терпко пахло шерстью, мочой и навозом. Малюсенькое окошко у стола и керосиновая лампа в руках старой хозяйки посеяли в нас первые семена разочарования. И мы удивленно спросили себя: «Куда мы попали?». Но еще больше удивились, когда с печки-лежанки послышался молодой женский голос:
— Никак долгожданные гости явились, не запылились? Анька, это ты со своими?
— Я, Катька, я, — ответила наша матушка. — Здравствуй, сестренка.
Они обнялись, расцеловались.
— Ладно. Садитесь. Я схожу в сени и принесу кое-что. — Тетя Катя слезла с печки. И тут мы только увидели, она была слепой. А правая рука совсем отсутствовала. Вместо нее висела культя-култышка, которой она, между прочим, неплохо орудовала, взяв под мышку маленькую кастрюлю. А вытянув вперед левую здоровую руку, она наощупь вышла за дверь. Там она подоила двух коз, вернулась и поставила на стол полную кастрюлю теплого парного молока.
— Пейте, дорогие гости, — сказала она, и мы снова увидели сверканье ее незрячих глаз. Впервые в жизни мы увидели слепую женщину, которая оперативно управляется с таким хозяйством. Это было для нас первым открытием, которое я бережно сохраняю и сейчас, в зрелом возрасте.
Из-за двери мы услышали блеянье коз и овец, кудахтанье кур, кряканье уток и гоготанье гусей.
— Это мои питомцы, — объяснила слепая, — они мне заменили людей. Без них эта тюрьма давно бы стала для меня могилой.
Нам дали щи с жирной бараниной. Мы налегли на еду, изредка косясь на слепую хозяйку. Она невозмутимо продолжала окутывать тесную комнатенку дымом. Да еще коптила керосиновая лампа, словно мы перенеслись в деревню двадцатых годов.
— А почему у вас нет электричества? — наконец, обратился я к бабушке. За старуху ответила тетя Катя:
— Мы уже вторую неделю сидим без света. Говорят, уволили и увезли куда-то нашего электрика. Анонимку кто-то состряпал. Оклеветали хорошего человека. Сволочи!
Мы приехали вовремя. Старуха стала плохо видеть, слышать. У нее тряслись руки, жевать было нечем. Но гостить всю жизнь мы не собирались. Нашей маме нужна была работа и своя квартира. И через месяц мы поехали в районный город. Там наша мама устроилась работать на машинно-тракторную станцию, ей пообещали квартиру через полгода. Надо было как-то жить и кормиться. Нам посоветовали сходить в соседнюю деревню Тяплово, в двух километрах от города. Место нам сразу понравилось. Нас принял на квартиру Петр Иванович Брусов, насмешливый мужчина средних лет. У него была просторная изба, жена и две дочери, корова, свинья, утки, куры. За домом тянулся огород с картофелем и капустой, росли яблони, груши, вишни. Никакой изгороди не было. За овином расстилалось льняное поле. Когда оно цвело и пели птицы, лучшего уголка в России не найти.
Деревня стояла на бугре. Внизу текла чистая, рыбная речка Шешма, где летом купались и ловили рыбу дети из окрестных деревень. Вдоль Шешмы тянулись картофельные огороды, шла железная дорога, а невдалеке висел мост через мелководье.
Через метров пятьсот Шешма впадала в более широкую и чистую Вазузу, которая так изобиловала рыбой, что стала моей любимой рекой. Но после сооружения плотины некоторые виды рыбы исчезли.
Через полкилометра Вазуза впадала в Волгу, где сохранились остатки древнеславянской крепости Зубец. Отсюда и пошло название нового города.
Деревенское раздолье сразу покорило нас своей благоуханной красотой и звенящей тишиной, которая почти оглушила в первые недели пребывания у Брусовых. Все деревенские мальчишки через месяц стали нашими друзьями.
Здесь было две водяные мельницы: одна, большая, в Зубцове, другая, поменьше, в дерене Балышево. Теперь этих мельниц тоже нет.
Я всем сердцем полюбил этот речной край и постепенно забыл о море.
Однако наша жизнь в чужой квартире была унизительно трудной и нудной. Хозяева не отличались щедростью и великодушием, были придирчивы и щепетильны.
Вскоре мы получили двухкомнатную квартиру от машинно-тракторной станции, которая переименовалась в ремонтно-техническую. В этот период шла какая-то эпидемия в изменении названий улиц, поселков, станций, городов. Через лет пять ремонтно-техническая станция превратилась в объединение «Сельхозтехника», переименованное впоследствии в ремонтно-техническое предприятие.
Окончание следует
Алексей БОБРОВ