О ГИБЕЛИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Фрагмент из книги «Четырехлистник»
В «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны Цветаевой есть две последние части, которые выглядят как приложения к основному тексту мемуаров. Это «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» и «Последнее о Марине». В самой конечной части повествуется о поездке в Татарию, в Елабугу, где были сделаны усилия — узнать как можно больше о смерти сестры, об обстоятельствах ее ухода из жизни. Было намерение — найти затерянную на елабужском кладбище могилу поэта.
Анастасия Ивановна, не найдя могилу, установила крест в той стороне кладбища, где были захоронения 1941 года. Она возвратилась в Москву и по сделанным в пути заметкам записала услышанное и увиденное, дополнив сведениями, собранными от разных людей. Теперь, когда открыты архивы, в том числе и фонд М. Цветаевой в РГАЛИ, можно сказать, что многие «сенсационные» версии гибели поэта не подтвердились. Мнение Анастасии Ивановны наоборот, не опровергнуто, оно равноправно с другими, и во многом получило подтверждение, когда были опубликованы дневники Г.С. Эфрона.
Анастасия Ивановна узнала, что в пылу ссоры сын крикнул матери: «Ну кого-нибудь из нас вынесут отсюда вперед ногами!» — и почувствовала, что эта фраза могла стать побудительным мотивом к действию. Значит, решила она, Марина ушла из жизни, чтобы не ушел сын. И самоубийство ее было жертвенным. Могло быть и так, что, идя на самоубийство, сама не в силах ни содержать сына, ни найти с ним общего языка, она решилась уйти из жизни, чтобы сироту пожалели, не оставили помощью и участием. Возможно, в старой России и не оставили бы, поддержали. Но те, к кому были обращены ее прощальные письма, в судьбе сына приняли минимальное участие. Само существование этих писем говорит о многом. Во всех трех оставленных ею посмертных записках речь идет прежде всего о сыне. Письмо с обращением: «Дорогие товарищи!» — мольба, обращенная к писателям, — отвезти сына к Н. Асееву в Чистополь. Она беспокоится — как доедет, ведь — «Проходы страшные!». Говорит, что хочет, чтобы сын жил и учился. И добавляет: «Со мною он пропадет». А чтобы не пропал, надо освободить сына от себя и от своего отчаяния. И в письме к самому Асееву и сестрам Синяковым, снова о Муре, — она отдает им самое дорогое — свой творческий архив и сына. «Завещая» его в семью Асеевых, она говорит: «Я больше для него ничего не могу и только его гублю».
Можно себе представить, сколько раз сын говорил матери о том, что его она губит — теми или другими словами. Весьма знаменательны свидетельства из книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами», Сергей Яковлевич помог ему из Парижа уехать в Испанию и стать там агентом НКВД, автор был хорошо знаком еще по Парижу с семьей Цветаевых-Эфронов, он пишет:
«…Наша последняя встреча. Москва. Начало июня 1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Самого разговора не помню. Но хорошо помню его тональность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного (хотя этого еще не знали) отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрек. Я тогда решил: злоба на тех, кто привез его в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было… Мур не мог простить, что… погубили его жизнь. Хотя шпионаж (С. Я. Эфрона) был, возможно, следствием, вторичным явлением. Средством вернуть Марину в Россию».
В полном прощальной нежности письме к сыну, Марина Ивановна пишет: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я дальше не могла жить». Если и была больна Марина Ивановна, то только тем, что окончательно потеряла волю к жизни. «М. И. была абсолютно здорова к моменту самоубийства», — сообщает сын в своем дневнике (31.08.41), видимо, говоря о здоровье физическом. Душа же ее давно была больна отчаянием. Она чувствовала не что иное, как потерю личности. В повести «Старость и молодость» Анастасия Ивановна, в частности, замечает: «Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она — глохла? к миру? (отъединение)».
Не забудем, что первую попытку самоубийства Марина Цветаева совершила в Германии — в двенадцать лет пошла топиться в реку, потому что маленькая Ася ее «не понимала». Об этом Анастасия Ивановна написала еще в 1916 году в книге «Дым, дым и дым», вышедшей с посвящением сестре. Следующая попытка относится к 1908 г., тогда было написано ныне утерянное прощальное письмо. Она многие годы, не только последние два по ее выражению, так или иначе «примеряла крюк». Самоубийство, по глубокому наблюдению П. Д. Успенского, автора книги «У последней черты» (1913), не бывает внезапным поступком. Нет, это процесс. Человек отравляет себя постепенно мыслью о самовольном уходе из жизни. Лелеет эту мысль, пока сгустившиеся жизненные обстоятельства не крикнут ему в лицо — «пора!». И тогда следует неизбежное.
Марину Ивановну держали собственно на земле две вещи — чувство долга и творчество. Творчество к моменту самоубийства для нее закончилось, стихов она больше не писала.
Еще во Франции она говорила своему другу Марку Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Муж, бывший белый офицер, потом евразиец, и дочь серьезно увлеклись советской Россией. Увлечение их переросло в деятельность в «Союзе возвращения на родину», под «крышей» этой организации работала советская разведка.
Когда обвиненный в причастности к политическому убийству невозвращенца Игнатия Рейсса Сергей Эфрон бежал в советскую Россию, М. Цветаева осталась без средств к существованию. Эмигрантские литературные круги и так не жаловали Цветаеву за независимый характер и за сложный, далеко не всем понятный стиль стихов и поэм, а тут муж оказался советским агентом! Ее не только не печатали, ее стали открыто игнорировать, устроили настоящий бойкот… Иного пути, кроме возвращения в СССР, у нее уже не было. Тем более, там уже был Сергей Яковлевич, жила и работала дочь Ариадна. И туда усиленно рвался, тоже уверовав в «светлое будущее», сын Георгий, Мур.
И вот она в России, в советской России. Сначала арестовали дочь. Потом, выбив из нее показания на Сергея Яковлевича, взяли и его. Она оказалась с сыном снова одна — мыкалась по чужим углам, снимая на последние деньги жилье. Потом война, ужас перед которой ее обуревал еще во Франции. Всеобщая нарастающая тревога, переходящая в панику во время авианалетов.
Жена осужденного «врага народа», французского шпиона с белогвардейским прошлым; сестра Анастасии Ивановны, осужденной как контрреволюционерка; мать Ариадны, также осужденной как иностранная шпионка… Что было ждать Марине Цветаевой при таком ее «семейном положении»? Кстати, пока близкие были на воле, а Марина Ивановна собиралась в Советский союз, муж и дочь, бывшие тогда уже в СССР, арест и заключение Анастасии от нее скрыли, не написали. Когда Марина Ивановна у встречающих спросила: «А где же Ася?» — тогда и выяснилось, что сестра за свой «идеализм» отбывает срок. Они еще не ведали, что совсем скоро последуют за нею в тюремный ад.
Тучи сгущались, началась война, войска вермахта подходили к Москве. Марина металась, воля к жизни, цветаевская четкость этой воли постепенно покидали ее. Творчество кончилось. Остался только на глазах взрослеющий, грубеющий, рвущийся из-под ее крыла сын. Дальше эвакуация — Чистополь, Елабуга. Всеобщая тревога и безысходность, попытки устроиться на работу. Житье за занавеской у хозяев, которые с трудом терпели небогатую жиличку с сыном. С сыном она ссорилась постоянно — доходило до крика на непонятном им французском языке. И слух о ней шел — белогвардейка, эмигрантка. В ее отсутствие приходили на квартиру «с Набережной», так в Елабуге называли здание НКВД, проверяли ее вещи, бумаги. Вот еще одно звено в ложащейся кругами стягивающейся цепи, ускорившей последний шаг… Благодаря К. Хенкину мы располагаем сведениями о тех слухах, которые ходили в недрах спецслужб:
«В воскресенье, 31 августа, спустя десять дней после приезда ее из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бродельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа. Она так и не сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром. После смерти Марины Цветаевой оставались привезенные ею из Москвы продукты и 400 рублей. Хозяйка дома говорила: «Могла бы еще продержаться… Успела бы, когда все съели…» Могла, конечно. Сколько людей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного дня. Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак позже ворчал: Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им потом вернул». Но я еще тогда узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. Мне ее глухо подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об этом говорить. Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу, зазвал ее к себе местный уполномоченный НКВД и предложил помогать». Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: «Женщина приехала из Парижа — значит в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут льнуть недовольные, начнутся разговоры, которые позволят всегда выявить врагов», то есть состряпать дело. А может быть пришло в Елабугу «дело» семьи Эфрон с указанием на увязанность ее с органами. Не знаю. Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией…
Все эти слухи никак не опровергают мнения Анастасии Ивановны. Они лишь дополняют представление о той ужасающей атмосфере, в которую попала Марина Ивановна.
В дневниках сына Георгия, которые ныне опубликованы, к матери, пока она была жива и даже после, наблюдается отношение очень отстраненное. Недаром цветаевским чутьем Анастасия Ивановна, в лагере получив письмо от племянника, почувствовала этот холод к матери и ее памяти. По большому счету возможно, что потеря душевного контакта с последним по-настоящему близким человеком, с сыном, его душевная глухота, характерная подросткам этого возраста, стали настоящей последней каплей во Грааль земных страданий поэта…
Г. Эфрон, «Дневники», запись: «31 августа мать покончила с собой — повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее «освободить». И покончила с собой».
Мало кто обращает внимание на эту предсмертную просьбу. А зря. Освободить — от чего? Да от чувства долга перед несовершеннолетним сыном! Вот что ее мучило, вот что держало на земле. Ни Сергею Яковлевичу, ни Ариадне Сергеевне она уже ничем помочь не могла. Когда же почувствовала, что ее силы иссякли, дух сопротивления жизни сломлен, воля сникла — тогда свершила давно задуманное.
Да, только много спустя, 08.01.1943 он напишет гражданскому мужу своей сестры Ариадны, Самуилу Гуревичу: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение… Но как я ее понимаю теперь!» (Г. Эфрон. Письма, М., 2002, с. 108). Это действительно написал уже человек одинокий, немало перестрадавший, воровавший с голоду, которому осталось недолго жить до своей безвременной гибели на фронте.
Если вчитаться внимательно в текст «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, она лишь отражает узнанные события, и никого не обвиняет. Просто показывает возможную причину и следствие. И ей, как человеку православно религиозному, хотелось доискаться до возможного оправдания сестры перед Богом — жертвенное самоубийство можно хоть как-то оправдать!? Анастасия добилась своего — ее сестру отпели и теперь, бывает, поминают во храмах Руси. Племянника она тоже старалась понять. Понять его юношеское отвержение.
Станислав АЙДИНЯН

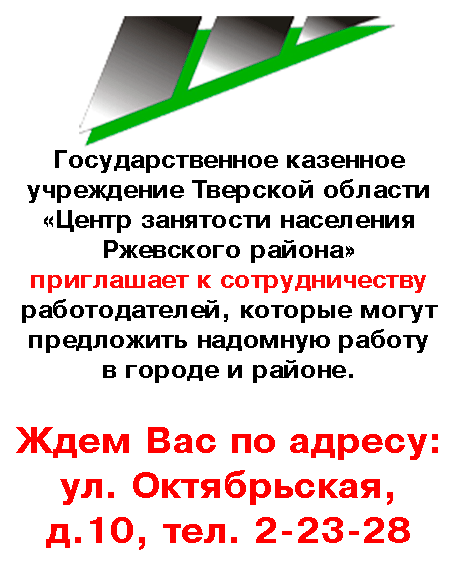


Она была ИЗНАЧАЛЬНОЙ пожизненной самоубийцей-стихийной экзистенциалисткой с уверенностью, что ее не поймать,потому что вегда сможет сбежать-уйти в мир иной. В этом была ее СВОБОДА. По Ницше с его утверждением, что мысли о самоубийстве помогают выживать. Психиатры легко определят ее диагноз(странно,что нет исследований в этой области), потому что вполне психически здоровой быть она не могла (отношение к маленькой дочери Ирине абсолютная патология),и жизнь сына при ней была бы мучительнее, если бы по ее же словам он не был «душевно неразвит. Не знает тоски». Её, которая никого не любила так как сына, доконала его холодность, в которой тем не менее он не был виноват. Она БЕЗ ЛЮБВИ жить не могла. Всё остальное было не так ей страшно, как БЕЗ ЛЮБВИ ВАКУУМ ПУСТОТЫ В ДУШЕ. Оба они с сыном без вины виноватые в ужасе их отношений. ЭТО ее доконало. Остальное она не воспринимала как ужас-быт это всего только физические неудобства, ей неважные. Вот то, что она не могла сыну его наладить-это был её амок. Не хватило сил на жизнь, которая стала окончательно страшнее смерти. Бумеранг судьбы-как она не узнала могилы малышки Ирины, никто, начиная с сына, не знает и её могилу…