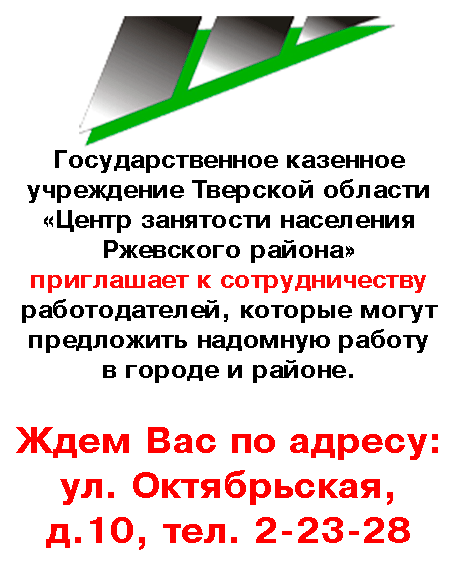«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ»: ИНЫЕ СМЫСЛЫ

В самом факте появления в печати в 1946 году известного стихотворения Твардовского, написанного по впечатлениям поэта на Калининском фронте в 1942 году, уже есть загадка. Цензура ли военного времени его не допускала в печать, сам ли поэт не спешил с публикацией, неизвестно…
Первая же строка, ставшая хрестоматийной, сразу задает тексту некую нереальность, условность: «Я убит подо Ржевом». У этого «я» нет имени, отчества, фамилии, но это «я» говорит от имени погибшего воина именно здесь, на «Ржевском выступе» войны. Эта речь мертвого к живым, рассказ, как пришла смерть, и перечисление подробностей схожи со статистическим отчетом. Это монолог никому не известного человека. И место его гибели — «безымянное болото» на карте военных действий: он и не знает ни точного географического расположения своей части, ни населенного пункта, ни другого ориентира. Для солдата важнее помнить военные детали: «В пятой роте, на левом, при жестоком налете», именно их фиксирует сознание и именно они воссоздают явь происходившего.
Героический пафос стихотворения в самом его начале поэтом намеренно снижен: убит воин не в открытом бою, а при авианалете. А затем сдержанная сухость констатации факта перерастает в следующих двух строфах в никем, никакой «цензурой» не сдерживаемое чувство личной трагедии произошедшего:
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна, ни покрышки.
Смерть пришла внезапно, конец жизни устрашает своей обреченностью: всё произошло мгновенно, и никто об этом не узнает, он просто «пропал без вести». Его тело не предадут земле, как положено, он возвратился в пространство земли в хаосе. И слова «ни дна, ни покрышки», имеющие в обиходе некое мистическое, заклинательное значение, он со скорбью переосмысливает и адресует своей безвестной судьбе.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки,
С гимнастерки моей.
Этому миру исчезнувший в небытие воин не оставил примет своего существования: уже никто и никогда не узнает, кто он был, в каких войсках служил, кто был по званию. И вот от человеческой жизни, от смерти, горькой судьбины, не остается НИЧЕГО. Только пустота пропасти, куда он вошел и канул. Он — без вести пропавший, его нет теперь ни среди живых, ни среди мертвых.
Воин остается воином и продолжает стоять там, где поставлен: на посту, стоически утверждая и возвышая свой голос, всё же пытаясь определить «место» своему телу в земле, а душой поднимаясь в наземную явь. И его голос из другого мира приобретает метафизическое звучание:
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облаком пыли
Ходит рожь на холме;
Его тело уже стало тем зерном, которое, по Евангелию, умерло, чтобы стать колосом, продолжиться в новом, ином качестве. Да, он теперь под землей, в персти земной, но вместе с тем и над ней, в воздухе и звуках сельского и городского миров. Теперь его существом пронизано всё мироздание, весь человеком и Богом созданный космос жизни:
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет, —
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
И строфы, идущие друг за другом, и эпитеты контрастируют друг с другом: «корни слепые — во тьме», но рожь с облаком пыли не просто «волнуется», а «ходит». Этим космическим, природным динамизмом отмечена вся эта часть, определяющая пространство. И этот метафоричный, высокий, красивый строй отдельных частей предложения в его конце неизбежно заострен и замкнут на ту же печаль, он итожит человечью драму и боль: а ведь погибший — чей-то сын, раз мать — сюда — на поминки все равно прийти не сможет. Это образ страдающей, не нашедшей покоя души. И в следующей строфе уже от того «непокоя» он будто кричит, повышая тон на предельную громкость, он хочет быть улышанным:
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград?
Солдат намеренно хочет отослать нас к военной хронике? Или хочет сказать о чем-то большем? И это не просьба, не вопрос лишь, но утверждение видимой только им единой большой фронтовой полосы «Ржев — Сталинград». И там на одном его конце — громко «озвученный» подвиг города с «громким» именем вождя, а на другом — безвестные, жестокие бои и людские потери в безвестных болотах. Фронт для бойца еще и единая большая рана на теле земли:
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Он вопрошает живых, не зная (в июле 1942 года) исход сражения. В его вопросе сожалеющая тревога за маленький город:
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Военная история дает нам сегодня бесчисленные свидетельства к этому вопросу: как у фашистов «Ржев — трамплин на Москву», «Ржев — краеугольный камень Восточного фронта», так и неоднократные приказы Ставки «бомбить», «взять не позднее такого-то числа».
Герой стихотворения А. Твардовского ясно понимает, что исход войны решается сейчас — летом 1942 года. И он, убитый, словно продолжает воевать в одном строю со всеми, ему важно знать:
Удержались ли наши,
Там, на среднем Дону?..
Он чувствует эту всеобщую связанность событий. Это всё для него один фронт: Ржев — Средний Дон — Волга (Сталинград).
Этот месяц был страшен,
Было всё на кону.
Нет никаких «безвестных», отдельно взятых боев отдельных воинских соединений, есть только одно «всё на кону», общее для всех.
Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
В июле создается фронт за фронтом, возникают новые направления боевых действий. Но остановить врага не удается, наши войска ведут тяжелые бои и отступают. 28 июля обнародован приказ Сталина № 277 «Ни шагу назад!». Никто не знал, что будет дальше.
И в стихотворении пульсируют эмоции вопросов и восклицаний:
Нет, неправда. Задачи
Той не выполнил враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?
И тут впервые «я» сливается с «мы», со всеми павшими за Родину. И поэт доносит нам их смирение судьбе:
На земле на поверке
Выкликают не нас….
…Нам свои боевые
Не носить ордена…
И сердечен их всё продолжающийся диалог с живыми:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.
И вот просто «мать» в начале стихотворения становится Родиной! Смысл родства здесь аполитичен, он иной. И вот за неё-то, за Родину-жизнь, за продолжение рода и нужно было им умереть, такой ценой её спасти. И именно эти-то узы родства порождают невидимую связь мира живых с миром мертвых, и только потому и возможен здесь — диалог, иначе, в режиме коммунистической идеологии это будет либо сеансом спирита, либо насмешкой атеиста. Эта священная война была очень религиозна по духу, не по партийному билету. И не случайно позже появляется обращение «братья»:
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Души убитых братьев завещают, заклинают и обязывают братьев живых. Следующая строфа — словно неожиданный разрыв гранаты — возвращает в лето сорок второго, к пародоксальному «Я зарыт без могилы», к трагичности произошедшего, к неповторимой, единственной человечьей жизни и судьбе. Это не голос отчаяния того, кто пал напрасной жертвой, это голос религиозного человека, через смирение — первую ступень добродетели — обретшего спасение души, равно как и спасительное знание о чем-то большем, сокровенном, не выговоренном ни в официальных сводках Совинформбюро, ни в эмоциональных плакатах и фильмах:
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, дано
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.
Там, за чертой смерти, душа знает о том подлинном большем, что объединяет весь народ в этой священной войне — «наша вера». Это и нравственные критерии, привычность и ясность которых стала теперь выверена именно войной, борьбой за Родину-мать. Воевали не за чьи-то лозунги левых или правых. И павший утверждает живых, воюющих, именно в этой общей вере.
Но он не знает, что было потом, после его гибели, с фронтом, со страной. Ему в этом высшем смирении видится некая предельная точка войны, когда уже могут быть потеряны и Москва, и Дон, и Волга.
Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До пределов Европы.
Умирать за Родину — разве это пораженчество? В интонации — суровый и горький стоицизм, мужество самоотверженности и русского духа. Это понимаешь только тогда, когда осознаешь, что «до предела Европы» — это значит до Уральских гор. Еще было куда отступать и было за что драться. Даже если бы и пришлось отступить так далеко — русский солдат всё равно бы дрался! И следующие строки звучат как реквием русскому отступлению начала войны. Именно Урал, не Москва, видится ему той «последней пядью на дороге военной», после оставления которой «шагнувшую вспять ногу некуда ставить»:
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И павший солдат в своем предчувствии Победы, когда врага наконец повернули на Запад, спрашивает:
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
Его душа будто не может обрести покоя, пока идет война.
Но павшим дано только чувствовать сердцем этот, возможно, уже происходящий, поворот войны и позже — Победу. И вот воин скорбит лишь о том, что залпы победные не могут — хотя бы на миг — воскресить их, навеки «глухих» и «немых», что: «Если б мертвые, павшие, хоть бы плакать могли!». Речь идет о слезах радости.
Война соединила и сравняла жизнь и смерть:
Те, что живы, что пали —
Были мы наравне!
В этом мистическом равенстве неуместны упреки живым воинам, какой-либо их «долг» и чувство вины за произошедшее. У них одна сверхздача — за «дело святое», за Родину, «шагом дальше упасть».
Концовка стихотворения является также «заветной», сходной с древнейшим ритуальным приказом долго жить: и родимой Отчизне — служить, «горевать — горделиво» (о павших), «ликовать — не хвастливо» (о Победе):
И беречь её свято,
Братья, счастье своё —
В память воина-брата,
Что погиб за неё.
Это завет возвышенного счастья, которое невозможно без служения Родине. Эта счастье самоценно и эта Отчизна происходит от святого слова «Отец», того самого, что пишется с большой буквы. Это святость святой памяти, образа того воина-брата, что отдал, согласно христианским представлениям, жизнь за други своя, ибо «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13).
Среди пяти названных городов — Ржев, Берлин, Смоленск, Сталинград, Москва — территория Ржевского выступа и сам Ржев возникают не только как заглавное географическое поле битвы войны, но и судьбоносное. И вот об этой «точке кипения» было написано стихотворение, отозвавшееся в народе не меньшим эхом популярности, чем «Жди меня» Симонова.
Твардовскому удалось сказать о тех смыслах жизни и смерти, о которых в атеистическом государстве говорить было не принято. Поэт будто проводит героя стихотворения через душевные мытарства «я-безвестности» в его начале к просветленной цельности упокоения в «мы-родстве», в «мы-памяти» в конце. Раз душа убитого может говорить, значит, душа существует! Равно как и связь между живыми и погибшими. Поэтические интуиции поэта оказались более глубоки, чем это представлялось ранее, они черпают смыслы из тех первородных глубоких вод, которые питали всё человечество во все века.
Виктория КУЗНЕЦОВА, член СП России