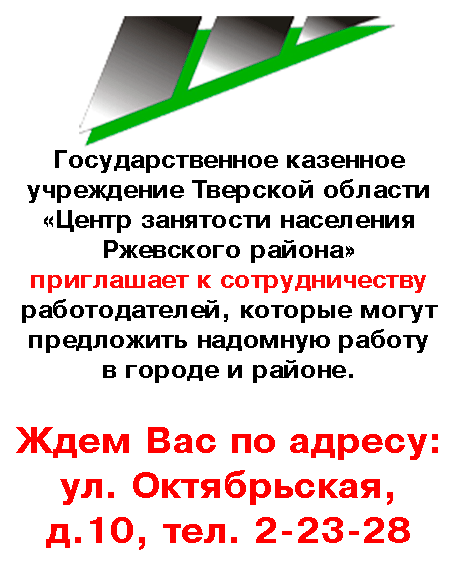Чертоги Забвения (рассказ)
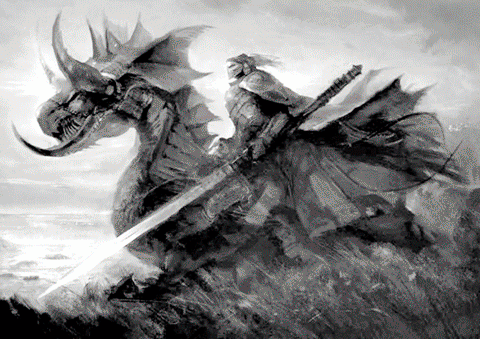
Он сидит на корточках.
На корточках, будто дворовый пацан, у которого устали ноги, и он принял эту непринужденную позу, чтобы досмотреть футбол на поле за гаражами.
Только гаражей нет. Есть великое туманное Ничто, темное и клубящееся. Сидящий мужчина выхвачен неизвестно откуда взявшимся окружьем света. Подходя, я думаю о Вие. Что ж, здесь, в Чертогах Забвения, это вполне уместная мысль. Хотя, по правде сказать, всех чудовищ выдумал наивный людской рассудок, привыкший упрощать и делить — на добро и зло, на веселое и страшное, на любовь и смерть.
И так мало думающий про Ничто.
Мне неловко и стыдно… Нет, это слишком слабые слова. Из глаз текут слезы, я кусаю губы, перебирая все вырастающие в горле определения, потому что ни одно из них не сможет выразить всей меры моей вины.
Это я убила его.
У-Ничто-жила.
Точнее, не так.
Точнее…
Он поднимает голову и смотрит на меня.
Волосы, длинные волосы дивного оттенка — не русые и не рыжие, золотые — рассыпаются по сухим, узким плечам пловца. Тонкие черты серьезного лица, серые глаза, светлые брови вразлет. Сухие губы, сжатые плотно — как шрам.
— Привет, — говорю я.
Он молчит.
Я сажусь подле него на корточки и тоже молчу.
Слезы капают, краснеет нос.
— Не надо, — произносит он. — Правда, не надо.
И вот теперь я взрываюсь.
Вскакиваю, отбрасывая себя — от него. Так проще. Так привычнее.
Я кричу.
— Что не надо? Что не надо? Как мне с этим жить-то теперь?
Он опускает голову — волосы рассыпаются по плечам плащом. Молчит.
— Не знаю, — говорит наконец.
Это правда. Он не знает. Потому что он не живет. Теперь. Или вообще?
* * *
Я его придумала. Я его написала. Златого витязя, пришельца из сказочного прошлого, загремевшего с дракона прямо в кипящее сердце Москвы. Классный сюжет, правда? «О боже, какой мужчина!» Сильный — и ранимый. Могучий — и трепетный. Старомодный. Трогательно постигающий наш дивный новый мир — со всеми его гаджетами и виджетами, социальными сетями, банками и автомобилями. С людьми, также мечтающими о сказке, как и тысячу лет назад.
Два эксперта проглотили книгу за три дня. Редактор пел дифирамбы и поил коньяком. Издательша вцепилась в рукопись сухими пальчиками с вишневым маникюром.
— Срочно пиши вторую часть! Срочно! — надрывалась она в раскалившийся айфон. — Это успех! У нас будут продажи! Ольга Громыко просто деревенская девочка по сравнению с тобой! Лукьяненко исписался, а мы… мы…
Мы — то есть они — закрылись через месяц.
Людмила Борисовна не брала трубку.
Я бросила рукопись и вместо продолжения романа взяла подработку, пару учеников по английскому.
Я бросила его.
И вот теперь мы оказались лицом к лицу.
* * *
Истерика отступила, и я вновь опускаюсь на корточки перед ним. Иначе совсем нечестно. Хотя и так…
И — бросаюсь ему в руки, как в омут с головой. Шальная мысль возникает где-то на задворках рассудка — что сейчас я пролечу сквозь него, бесплотного, и приложусь лбом об пол в своей комнате, и проснусь, проснусь.
Но нет.
Он обхватывает меня, обнимает, принимает, запахивает в своих объятьях. Волна золотых волос накрывает нас обоих, скрывает от мира.
Я плачу навзрыд, как ребенок, тычась в него лбом. Не как героиня фантастического романа, про которую сама писала, а как современная жесткая женщина, внезапно обнаружившая, что у нее сердце.
Я также внезапно обнаружила, что у меня его нет.
Он обнимает меня, кутая в свои руки, в свои теплые плечи, гладит по голове, ерошит волосы на затылке.
— Не надо, не плачь, глупая, ну что ты, успокойся, успокойся сейчас же. Ты же помнишь, ты должна помнить — я погибал уже, и я вернулся. Я вернусь и сейчас. Только не плачь.
Но я плачу, пока во мне не кончаются все слезы. Пока не начинаю только дрожать, и все. Только дрожать. Ни слез, ни слов. Все это слишком мало — с ним. Да и вообще.
Мы садимся в этом Ничто, в дымке тумана. Ничто по ощущению совершенно никакое, туман ничем не пахнет, нет сквозняка. Ничего нет. Чертоги Забвения.
В мое плечо упирается его плечо, и оно твердое и теплое. Прядка золотых волос щекочет мне шею.
— Издательство закрылось, — говорю я. — Понимаешь? Кризис, доллар вырос, книги никто не покупает.
— Понимаю, — кивает он. — Я смотрел это ваше… телевидение. Пестрые, яркие картинки. Будто балаган бродячих артистов прямо у тебя дома. Дают представления, поют менестрели. Ни о чем не надо думать. А книга…
Он шевелит длинными пальцами, на которых — я знаю — набиты сухие мозоли от рукояти клинка. Шевелит, будто перелистывает невидимые страницы.
— Когда я был маленький, я таскал книги в свою комнату и там читал с лучиной, — говорит он. — Мать страшно ругалась, говорила, что я спалю свою башню и весь замок.
Я улыбаюсь. Осторожно, краем рта.
— Ага, и я читала. С фонариком. И мама говорила, что я окончательно испорчу глаза, и меня никто не полюбит очкастую.
Я замолкаю.
— Я потом сделала операцию на глазах, это не сложно и не дорого. Но… Меня никто не полюбил.
Он молча обнимает меня и притягивает к себе. Теплая нагая кожа пахнет легким свежим мужским потом и почему-то липовым цветом, как старинный бабушкин шампунь, как воспоминание детства.
— Ты пришла, и это главное. Ты вернулась, ты пришла. Но… там пауки, — говорит он, — пауки. Мы убили их мать, но демонесса дала приплод, и ее наследие теперь множится в моем мире, пожирая плоть, высасывая души. Сколько прошло? Я тут не чувствую времени.
— Два месяца, — выдыхаю я одними губами, — три.
* * *
У меня два высших образования, лингвистика и пиар. Я могу придумать идеального героя — и чудовище, которое будет вызывать страх и ненависть у любой таргет-группы. И я придумала. Я же хотела создать произведение, имеющее рыночный успех, возможно, с последующей экранизацией. Не пожалела количества — ведь моему златому витязю должен достаться сложный противник, чтобы интрига сохранялась в течение всего романа. Тысячи громадных пауков обрушились на его родину, пока он постигал премудрости существования в третьем тысячелетии. Какой айфон лучше — черный или беленький. Ауди или бэха. Арбат или Фили. Кельвин Кляйн или Ральф Лоран. ТНТ или СТС.
Теорема Эскобара, не имеющая решения.
И теперь где-то далеко вечно голодные пауки рождали вечно голодных пауков.
* * *
Он мрачнеет, светлые брови сдвигаются.
— Плохо.
Жилистая рука сжимает пустоту у бедра. Обычно там меч. Я вижу, как ногти впиваются в ладони, белеют костяшки пальцев.
— Что мой оруженосец? Я… не чувствую его.
Я развела с ним оруженосца. Забросила парня в паучий тыл. Так интереснее. Так больше экшена — потому что оруженосец у него — рохля и сибарит, я знаю, ведь я писала его с себя. У него мой айфон и моя прическа. У него моя работа, он несчастный московский хипстер, провалившийся в сказочное средневековье и страдающий там без онлайн-танчиков, горячей воды и бальзама для волос.
— Не знаю.
Мой голос звучит хрипло, откашливаюсь и повторяю:
— Не знаю.
Я вру. Оруженосец бегает от пауков по пещерам, вот что. Затравленный, оборванный, голодающий. Два месяца. Три. Я почему-то вспоминаю, как пять недель сидела на низкоуглеводной диете, когда нельзя булочки, кашки и фрукты. Мне было очень плохо, от недостатка углевода башка мутилась, я по десять минут сидела над переводом простейших терминов.
Оруженосец три месяца жрет крыс. И мерзнет. Я бросила писать в августе, сейчас октябрь. Конечно же, и в волшебном мире есть зима.
— Моя женщина… беременна? — спрашивает витязь.
Догадался.
Она скрывала от него. Сильная женщина, слишком сильная. Такая, которой я всегда хотела быть — и не буду никогда. Влюбившаяся в странного рыжего мужика. Так, как я не умею влюбляться.
— С ней все хорошо, — говорю я. — Срок еще небольшой, токсикоза нет.
— Мальчик, — говорит он.
Это не вопрос.
— Мальчик, — отвечаю я.
* * *
Детей у меня тоже, как вы понимаете, нет. У меня ничего нет.
Ох, ну конечно же есть — довольно приличная однушка на Измайловской, доставшаяся от бабушки, работа в агентстве по переводам, хорошая зарплата, «Тойота» и айфон. По уик-эндам я хожу в хорошие бары с друзьями, которые у меня тоже есть.
А еще у меня есть мечта. Глупая детская мечта — когда-нибудь издать свою книгу, хорошую книгу, которую бы люди читали и радовались. Я даже хотела поступать в литературный институт — родители отговорили. Сказали, после него я смогу работать разве что редактором — а это, несмотря на громкий титул, копейки. То ли дело ин-яз — чуть ли не втрое больше и без особых проблем. Не такие массивы текста. Не надо ломать и без того больные глаза.
Но мечта…
О, я пробовала несколько раз — ничего не получалось, была не готова. Картонные герои, недостаточно продуманные миры.
Пока не проснулась однажды утром, катая этот текст на языке, словно витаминку.
И теперь у меня есть книга. Одна.
Вообще, планировалась трилогия, но…
* * *
Я лежу головой на его плече, и мне хорошо и уютно.
— Ты волшебница, — говорит он. — Кудесница ты. Ворожея. Я не знаю, как сказать. Ты можешь сказать, написать — и я снова стану жить. И кто угодно станет. Это чудо.
— Дура я, — признаюсь честно. — Безответственная дура и сволочь.
Он гладит меня по волосам.
— Неправда. Глупым человек может считаться, лишь когда не предполагает, что в жизни может случиться всякое. А злым — если не верит… в сказки. Ты точно не такая. Ты… волшебница, тебе дана великая сила говорить с людьми через книги… доносить до них то, что есть в них самих… но им же самим не видимо. Понимаешь?
Я понимаю.
Я закрываю глаза и вдыхаю запах красивого мужского тела и липовых цветков.
И резко встаю.
— Я быстро пишу. Авторский лист за два дня примерно. В романе их около восемнадцати, шесть уже готово. Треть. Ты… знаешь, что делать? Ну, когда снова окажешься… там? Живым!
Он кивает.
— У меня было довольно времени, чтобы поразмыслить.
Мне в щеки бросается жар.
Опускаю глаза.
— Хорошо. Хорошо!
* * *
Теперь мы стоим друг напротив друга посреди великого Ничего, в белом круге света. По нашим ногам скользит, змеится туман.
Мы держимся за руки.
Я и златой витязь, о котором я мечтала. Придуманный мной для женщины, которой я мечтала быть.
Он наклоняется ко мне — потоки златых волос обтекают его сильные плечи, засыпают меня — становится так остро, так тесно в груди, что нечем дышать.
Он целует меня.
* * *
Когда я открываю глаза, обнаруживаю себя в своей комнате. За окном вечер, из телевизора рассказывает смешные штуки симпатичный Иван Ургант.
Я выключаю телевизор и достаю телефон. Сделать три звонка — Лере и Пашке, сказать, что занятия инглишем откладываются на месяц. И Елене Сергеевне — что беру отпуск за свой счет.
Как издать, я найду — оббегу уцелевшие после кризиса издательства, проведу краудфандинговую кампанию по сбору средств или в конце концов вложусь в печать сама. Я сделаю, я найду — недаром же у меня два таких практичных диплома и высокая квалификация.
Надо наверстывать.
Я прижимаю к лицу ладони и медленно выдыхаю, сосредотачиваясь.
Пальцы еле заметно пахнут липовым цветом.
Любовь КОЛЕСНИК