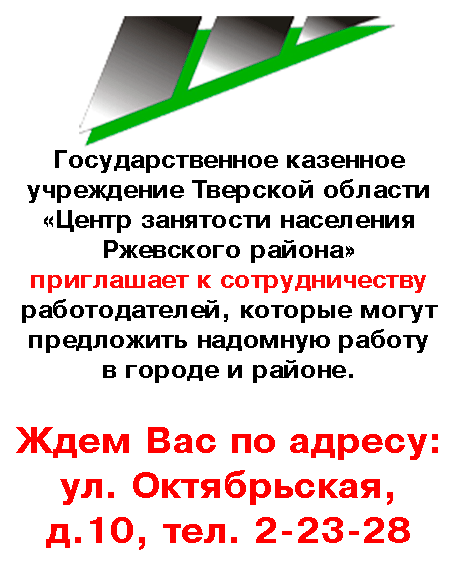КАК БУДТО ВЧЕРА

Окончание. Начало в N№ 9
Любой мир лучше войны
Освободили нас 15 августа. Еще с вечера на наш блиндаж уселся какой-то немец с пулеметом и стал стрелять. Старшие очень испугались — стало понятно, что наши должны будут сделать так, чтобы этот пулемет замолчал. Сидим, ждем своей участи. А в 5 утра немец неожиданно исчез. А мы вдруг услышали: «Эй, кто там есть? Выходи!». Мы забыли все рассказы о том, что немцы устраивали такие провокации. У бабушки ноги подкосились, она ползет по ступенькам блиндажа наверх и кричит: «Сынки! Сыночки! Это мы! Мы!». Сверху спрашивают: «Кто мы?». А мы отвечаем: «Цивильные!» (это немцы так называли гражданских). Солдаты чуть не матом: «Какие цивильные? Выходите!». Но мы не вышли, мы налетели на них, повисли, плачем, кричим от счастья. Видеть их, дотрагиваться до них было такой несказанной радостью!
Бабушкин дом, к сожалению, не уцелел. Да и оставаться в деревне нам было нельзя. Нас освободили разведчики и предупредили, что если немцы вернутся, то всех расстреляют. Такие случаи уже бывали. И мы пошли к деревне Киёво — 15 км пешком; около Бельково увидели гору, сплошь усеянную трупами наших солдат. Они были в зимнем обмундировании и у всех были черные лица. И вдруг налетел немецкий самолет и стал в нас стрелять из пулемета. Вокруг — голая гора, ни деревца, ни кустика. И я нырнула прямо к убитому солдату под шинель и слышу, как в него пули попадают и звук такой странный «Пшш, пшш». Я поднялась, когда стало тихо, смотрю — все остальные тоже вылезают из-под трупов. Удивительно, но никого даже не ранило. Страх способен делать с людьми удивительные вещи.
Мы дошли до полностью разрушенного Киёва. Солдаты нас подкормили и ушли. А мы остались жить в их шалашах. Потом нас эвакуировали в Курово-Покровское, потом в Луковниковский район. И я сразу же пошла в школу и со временем смогла самостоятельно догнать сверстников.
Ржев…
Когда освободили Ржев, мама туда пошла. У нас совсем не было соли, а в городе почти сразу наладилась какая-то торговля. Ей очень хотелось сходить к нашему дому. Он уцелел. И, по-моему, мама даже что-то оттуда принесла. Но квартира наша уже была занята другими людьми.
Мечты о возвращении домой пришлось оставить. Квартира занята, кругом — разруха и пепелище, люди живут в землянках. А вот папа наш объявился почти сразу. Как только услышал, что Васюково освободили, стал нас искать. А я каждый день его ждала. И вот однажды почтальон принес заветный треугольничек! Потом его по ранению на несколько дней отпустили к нам. Папа был трижды ранен и демобилизовался лишь в 1946 году. Тогда мы приехали в Ржев и он построил дом на улице Школьной. В этом доме мы и стали жить.
Каким я запомнила послевоенный Ржев? На наших 15 сотках, которые нам и тете выделили под строительство дома на двух хозяев, мы зарыли 15 огромных воронок… Вокруг были какие-то руины, разрушенные фундаменты.
Я поступила в школу, сразу в шестой класс. Ходила мимо храма на Соборной горе. Какой же красивый собор! Он был почти целый, только купола не было. Нас посылали туда грузить документы, которые там хранились, я взяла какую-то книгу — думала, сказки, а там было написано, кто с кем и когда венчался. Документы эти увезли в Калинин. В самом соборе сохранилась роспись, часть потолка тоже была расписана. Нам было очень интересно ходить по храму.
Судьбоносное решение
Мои школьные годы подходили к концу, и я уже выбрала профессию. Меня ждали в Горьком, я собиралась строить искусственные водоемы. Но судьба распорядилась иначе. После последнего экзамена по истории к нам в класс пришла Ольга Алексеевна Зверева, заведующая гороно, и сказала: многие учителя немецкого языка во время войны погибли, ощущается их острая нехватка в школах области. И пригласила всех желающих поступать на отделение немецкого языка Калининского пединститута. Там были организованы 10-месячные курсы. И среди 22-х комсомольцев-выпускников нашего класса не оказалось ни одного желающего. Ни одного! Я пришла домой и не могла найти себе места. Как же так! К нам обратились, мы нужны, а никто не поднял руку. Но и с немецким языком у меня были сложные отношения. Еще в Курово-Покровском, когда я начала хвастаться своими первыми пятерками перед папой, он спросил: «Язык врагов учишь?», и этот предмет для меня отодвинулся на последнее место, я им занималась с большой неохотой. Но не откликнуться на такой горячий призыв не могла. И на следующий день я, единственная из класса, написала заявление о зачислении на курсы.
Но курсов-то как таковых и не было… Через полмесяца учебы нам выдали планы и отправили учить детей. На селе учителей не было вообще, и меня отправили в Ефимовскую школу. Так я стала учителем немецкого языка и проработала здесь четыре года. К моей квартирной хозяйке из Мурманска приехал сын — моряк рыболовецкого флота. И не уехал обратно до тех пор, пока я не вышла за него замуж. И так я оказалось морячкой.
В Мурманске проработала в школе 28 лет. Но на севере к иностранным языкам было совсем другое отношение. Это был вопрос политики, и к их изучению относились очень серьезно. Ведь в Мурманск заходили иностранные корабли, в том числе и немецкие. Мне даже приходилось работать переводчицей.
Потом для учителей были организованы курсы улучшения разговорной речи. И в 1964 году я впервые оказалась в Германии.
На родине врага
В первый день мы посетили Веймар, культурную столицу Германии. В нескольких километрах от него — Бухенвальд. Когда мы ходили по концлагерю и видели в подвалах тюки женских волос, маленькие детские ботиночки, то казалось, что сейчас от ужаса и боли остановится сердце и ты умрешь, но мы шли вперед и смотрели…
Нас очень строго инструктировали, объясняли, как вести себя. И я старалась в себе подавить детские воспоминания, просыпающуюся ненависть. В конце дня была запланирована встреча с немецкой интеллигенцией. Я зазевалась, и место за столиком осталось только рядом с пожилой немкой возраста моей мамы. Я смотрю на нее, и меня гложет только одна мысль: «Вот кому отправляли отобранные, вырванные из маминых рук вещи. Вот кому отправляли нашу с сестрами одежду и мою большую куклу». И совершенно непроизвольно у меня потекли слезы. Я стараюсь держаться, а слезы льются. Ко мне подходит наш завгороно и говорит: «Лидия Алексеевна, я Вас уже не прошу. Я приказываю — дойдите до стола и сядьте рядом». Я послушалась, подошла, села. Слезы льются, рот не разжимается, слова сказать не могу. Немка начала рассказывать про себя, про своего племянника — выпускника школы. Она сама оказалась учительницей начальных классов. Но я разговор поддержать не могу, сижу еле живая. Тогда она предложила выпить вина, на что я смогла лишь кивнуть головой. Выпили. Я человек не пьющий, а тут, видимо, вино так на меня повлияло, что я предложила выпить еще. Она очень обрадовалась. И только-только мы стали налаживать контакт, как подошел ее муж.
Смотрю на него, а его не вижу. Зато видится мне тот эсэсовец, который нас выгонял из дома. Я снова трезвею, каменею. А он начинает со мной разговаривать. Спрашивает, где мы были, узнает, что были в Бухенвальде, машет руками и возмущается: «Да кто же вам такой план составил? Как вы вообще после этого с нами здесь сидите?!»
Я снова заплакала, а он стал меня гладить по плечу. Он оказался учителем гимназии, преподавателем английского и французского языков. Про то, как и где он воевал, мы, конечно, не говорили, тем более что он сам предложил говорить о чем-то другом, забыть о прошлом. Я возразила, что не забыть нам этого никогда. Но мы стали говорить о своих учениках, о Шиллере, Гете, о музее Листа. Лед между нами стал таять. Все-таки мы, учителя, особая каста. А уж когда пришли дети и стали дарить свои подарочки, то я смогла окончательно справиться с собой. Дети всегда примиряют. Но в целом я вела себя в ту первую поездку достаточно агрессивно. Даже поскандалила в обувном магазине, где меня не хотела обслуживать продавщица. Причем, когда передо мной стали извиняться, я гордо отказалась от покупки детских ботиночек, сказав, что в Москве куплю лучше!
Мир, примирение?
Это очень сложный вопрос. В последнюю мою поездку в Германию я была в одном небольшом немецком городке. В нескольких километрах от него, в горах, наши военнопленные строили в конце войны завод для выпуска ФАУ-3. Перед отступлением фашисты взорвали горный массив, и завод со всеми военнопленными оказался похоронен под этими завалами.
Там мы познакомились с преподавателем ремесленного училища, который вместе со своими учениками на каникулах извлекал из-под завалов останки наших солдат, чтобы похоронить. На кладбище очень мало могил с фамилиями, в основном, надписи — Иван из Киева, Василий из Орла. Для нас был устроен митинг. И я на нем решила сказать речь. Мне было очень тяжело выступать, но поступок этого невзрачного с виду, но такого душевного мужчины, так меня впечатлил и растрогал, что я не удержалась. Я рассказала о себе. О том, что немецкий язык не то что учить, но и говорить на нем и даже слышать его не хотела. И как мне пришлось сделать такой сложный выбор и стать учителем языка, который многие на моей родине ненавидели. О том, как наши ученики, обидевшись на требования или плохую оценку, могли назвать нас фашистами. И о том, что мы, учителя, все-таки преодолевали себя, учили детей их языку, приезжали к ним, принимали их у себя с одной только мыслью, что любой мир лучше войны, которую мы пережили. Сказала о том, что если бы они знали, как издевались над нами их солдаты и офицеры, как отнимали у нас последнее, обрекая женщин, стариков и детей на голод и холод, то они бы сами не смогли себя простить. И пожелала им никогда этого не узнать. Немки плакали, плакали даже некоторые мужчины, плакали члены нашей делегации. Меня жалели, заглядывали в глаза. И я вдруг почувствовала, что прежняя ненависть ослабла, я словно отпустила свои воспоминания. Мы обменивались адресами, и эта налаженная переписка продолжалась, когда я снова вернулась на родину и пошла опять преподавать в Ефимовскую среднюю школу.
Я, наверное, простила. Но когда узнала о создании в Ржеве немецкого кладбища, испытала сложные чувства. И считаю, что это было неправильное решение. Наши солдаты здесь бились за каждый метр своей родной земли, гибли, страдали. И отдавать ее их врагам, пусть даже мертвым, нельзя. Моя одноклассница Галина Ивановна Хмылкова давала мне читать письма родственников погибших немцев, с благодарностью за возможность посещать могилы родных…
Мне сложно описать свои чувства. Но стали вспоминаться и другие эпизоды, кроме тех, ужасных, которые невозможно забыть. Я вспоминаю спасший нашу семью во время тифа рыбий жир, который для нас украл и принес молоденький солдат-француз. То, что немцы отменили приказ убираться из деревни с больной тифом мамой. Помню чечевичный суп, который нам всегда давал немецкий повар, после того, как раздаст питание солдатам. Помню двух улыбающихся, совсем молоденьких немецких солдат, которые 1 мая принесли патефон и стали танцевать с моими двоюродными тетями Аней и Марией у нашего крыльца, за что попали на передовую и были убиты. Может быть, они и лежат на этом кладбище? Я не знаю…
Записала Ольга Дабуль