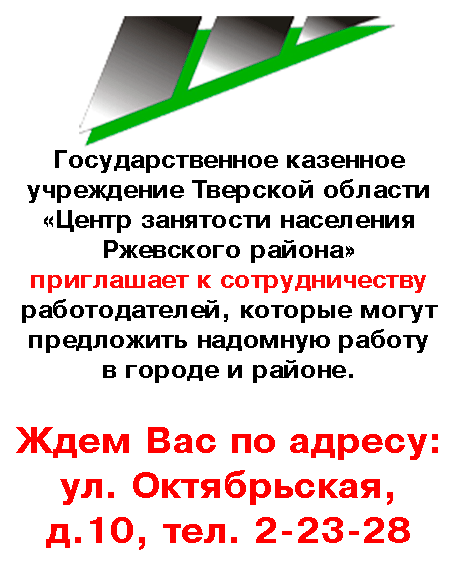А В ДЕТСТВЕ БЫЛА ВОЙНА…

О чем мечтают школьники? Каждый о своем: чтобы на день рождения родители подарили новый телефон, в четверти появилась долгожданная пятерка по математике, высокомерная одноклассница наконец-то обратила внимание… Восемьдесят один год назад дети желали одного: чтобы папка вернулся с фронта, застал их с мамкой живыми, а проклятая война наконец-то закончилась.
До 1941-го Гончуковы жили, как и прочие ржевские семьи. Отец Михаил трудился на заводе, мама Анастасия (в семье ее звали Ната) — там же, работала на кухне. Когда началась война, Изе, старшей дочери Михаила и Анастасии, исполнилось восемь лет. Средняя дочь Галя была младше Изы на два года, а младшая, любимица Эля, совсем недавно появилась на свет — в 1940-м году.
— Мы жили на Садовой, — вспоминает Иза Михайловна Копылова (Гончукова), недавно отпраздновавшая 90-летний юбилей. — Отец как-то пришел с работы и сказал маме: «Ната, собирай вещи, наш завод эвакуируют на Урал, туда семьями берут». Мама ехать отказалась — не могла оставить своих и отцовских родителей. Когда немцы вступили в Ржев, отец уже был в рядах действующей армии. Его родители, дедушка Владимир и бабушка Ольга, жившие в частном доме в Опоках, предложили маме с детьми перебраться к ним. Начались бомбежки, мама была вынуждена согласиться. Дедушка Володя вырыл яму на огороде, туда мы спрятали ценные вещи и сами укрывались во время обстрелов.
Иза Михайловна вспоминает, что город бомбили днем и ночью. Дедушка решил, что прятаться от снарядов на огороде небезопасно. Обследовав берег Волги близ Опок, нашел большую промоину, в которой семья укрывалась во время бомбардировок. Взрослые постоянно недосыпали, так как очередной артналет предугадать было невозможно. Когда ночное небо озарялось вспышками, мама брала годовалую Элю на руки, дедушка и бабушка вели к яме старших внучек. С ужасом наблюдали, как бомбы разрываются на противоположном берегу реки, в районе Нижнего Бора, или поднимают огромные фонтаны брызг в ночной Волге.
 Как в Опоки вошли немцы, увидел из окна Владимир. Большая колонна мотоциклистов — у многих в колясках сидели овчарки — двигалась по дороге в сторону действующей до войны пуговичной фабрики. Фашистов пришлось наблюдать не только издалека.
Как в Опоки вошли немцы, увидел из окна Владимир. Большая колонна мотоциклистов — у многих в колясках сидели овчарки — двигалась по дороге в сторону действующей до войны пуговичной фабрики. Фашистов пришлось наблюдать не только издалека.
— Как-то в дом зашел немец с автоматом, — рассказывает Иза Михайловна. — Навел оружие на маму: «Матка, шнель!» Дедушка попытался заступиться, показывает немцу знаками: мол, нельзя ее забирать, у нее трое детей. Фашист разозлился, автоматом закрутил. Дед сказал: «Иди, Ната, иначе он всех перестреляет…»
Анастасии в числе других оставшихся в Ржеве женщин пришлось работать в здании пуговичной фабрики, где немцы оборудовали кухню и пекарню. Женщины носили воду, чистили картошку. К тому времени у оккупированного населения съестные припасы подходили к концу, семья Гончуковых не стала исключением. Анастасия сшила тканевый мешочек, который прятала под одеждой. Втайне от врага набивала его картофельными очистками. Дома бабушка Изы, Ольга, прокручивала шелуху на мясорубке, варила из нее суп. Или пекла лепешки на масле, которое отливала из лампадки, висевшей перед иконой Божией Матери.
Не щадили и стариков. Пока женщины работали на кухне, пожилых мужчин заставляли рыть окопы в районе гарнизона. В их числе был и Владимир Михайлович Гончуков. Но выдержал дедушка Изы недолго: через неделю бросил лопату и отказался, хоть и не по своей воле, потворствовать врагу. Был расстрелян автоматной очередью и закопан там же, недалеко от гарнизона, на волжском берегу, где его останки находятся до сих пор…
Оккупированные ржевитяне не знали, где и когда их подстережет смерть. Люди часто видели повешенных или расстрелянных соседа или соседку с деревянной табличкой на груди: «Партизан». Смерть была всюду: на улице, на обязательных работах, в жилых домах, где квартировались немцы.
 — У нас поселились четверо или пятеро солдат, — продолжает рассказ Иза Михайловна. — Один был добрый. Звал меня Луизой. «Луиза, ком!» — подойди, значит, — и угощал леденцами или хлебом. Если не доедал суп, отдавал нам, детям. Другие были злые. Особенно свирепствовали двое поселившихся у нас фашистов. Когда они были в доме, нам запрещалось слезать с печной лежанки. Солдаты раздевались догола, заставляли бабушку их мыть. Бабушка занавешивала лежанку, чтобы мы этого не видели, плакала, мыла немцев. Отказаться было нельзя, понимала — убьют.
— У нас поселились четверо или пятеро солдат, — продолжает рассказ Иза Михайловна. — Один был добрый. Звал меня Луизой. «Луиза, ком!» — подойди, значит, — и угощал леденцами или хлебом. Если не доедал суп, отдавал нам, детям. Другие были злые. Особенно свирепствовали двое поселившихся у нас фашистов. Когда они были в доме, нам запрещалось слезать с печной лежанки. Солдаты раздевались догола, заставляли бабушку их мыть. Бабушка занавешивала лежанку, чтобы мы этого не видели, плакала, мыла немцев. Отказаться было нельзя, понимала — убьют.
Один из фашистов сорвал со стены икону Божией Матери и растоптал. Восстановить ее было невозможно, так и висела на стене пустая лампадка. Бабушка Оля всегда молилась Божией Матери: за всех, кто на фронте, за сына Михаила, за дочь Антонину, медсестру, которая выносила солдат с передовой. Богородица услышала: папа и тетя Тоня вернулись с войны живыми.
В Опоках Гончуковы оставались недолго. Зимой немцы погнали жителей городской окраины через сооруженный пешеходный мостик через Волгу в район завода «Элтра». Оттуда — на вокзал Ржев-2. Людей загнали в товарный вагон. Ехали стоя, было так тесно, что невозможно было ни нагнуться, ни сесть. Путь продолжался несколько дней, из вагонов никого не выпускали. Ржевитян привезли в Беларусь, в концентрационный лагерь близ Слуцка. Поселили в бараки, вплотную заставленные трехярусными нарами. Кормили жидкой баландой: выделялось два ведра месива в день на несколько десятков человек. Ведра были те же, в которые люди по ночам справляли нужду. Охраняли концлагерь как фашисты, так и местные полицаи, перешедшие на сторону врага.
Несколько пленных женщин, среди которых была и Анастасия Гончукова, узнали, что в одном месте под колючей проволокой есть лаз, достаточный, чтобы в него протиснулся человек. Ночами смотрели, кто дежурит на вышке — немцы или белорусы: белорусы, как правило, по пленным не стреляли. Если на посту были местные жители, протискивались под колючей проволокой, ползли через освещаемое прожекторами поле до соседней деревни. Оттуда приносили картошку, морковь, бураки, изредка хлеб. Добытое отдавали детям.
Изможденных голодом и зверскими условиями содержания людей начал косить брюшной тиф.
— Полицаи ходили по баракам, — сквозь слезы вспоминает узница концлагеря, — смотрели, кто лежит и не встает. Лежит — значит, больной. Полуживых вытаскивали на улицу, бросали в яму. Мы потом слышали только звуки выстрелов или бросаемой в яму земли. Болели мы все, сил не было. Мама, когда в барак заходил полицай, уговаривала нас с сестрой и бабушку: «Посидите, потерпите, не ложитесь, пока полицай не уйдет, иначе не уцелеем». Поднимались из последних сил. Как-то выжили.
Помню, когда немцы стали выгонять нас из лагеря, наступила весна. Вывели нас на дорогу. На ней машины двух видов: обычные фургоны и душегубки, в которых людей травили газом. Мы поняли, что отбирают народ для отправления в Германию. Кто для этого подходил, загоняли в фургоны, кто нет — того в душегубки. Стояли стоны, крики — подростков и молодых женщин, пригодных для работы, отрывали от бабушек и матерей. Нас выстроили в ряды, вдоль прохаживались немцы и рассматривали пленных. Мама от голода и мучений выглядела гораздо старше своих лет, но все равно была молодая. Бабушка Оля сказала маме: «Ната, замотайся платком по самые глаза и глаз на немцев не поднимай». Когда к нам подошли, я услышала: «Пошли дальше, тут старухи с детьми». Вдруг немцы и местные полицаи засуетились, куда-то убежали, машины уехали. Пленные сели по обеим сторонам дороги и не знали, что делать. Час сидим, два. Людей становится все меньше — разбежались куда глаза глядят. А мы сидим. Мимо едет лошадь с телегой, ею женщина пожилая управляет. На смеси русского и белорусского языка говорит: садитесь, мол.
Так Гончуковы оказались на хуторе Святочи, в спасшей женщин и детей белорусской семье. Ржевитянок накормили, отмыли, отогрели, и наступила почти довоенная жизнь — только вдали от родины. Нахлебниками гости не стали — наравне с хозяевами занимались сельским трудом. Городские жители научились прясть, вязать, косить, ухаживать за скотиной. А сердце болело по родному Ржеву. Поэтому ближе к осени 1943 года, несмотря на отговоры хозяев, засобирались домой. С пустыми руками хуторяне гостей не отпустили: дали мешок яблок, полмешка муки, пять буханок хлеба, большой шмат сала.
Ржев оказался неузнаваем: руины, руины, руины… Дом на Садовой разбомбили, дом в Опоках сожгли. Подыскали в разрушенном здании уцелевшую квартиру с выбитыми стеклами — хоть какая-то крыша над головой. Вскоре узнали, что неподалеку на берегу Волги есть две пустующих землянки — в одну из них и заселились. Женщины соорудили из досок мебель — спальные нары, каким-то чудом нашли железную печурку, что оказалось настоящим спасением в преддверии зимы.
 — Тогда самым страшным для нас, детей, были крысы, — вспоминает Иза Михайловна. — Еду взрослые готовили на костре. Дети собирались кружком во-круг него, а вторым кругом, позади нас, сидели крысы. Мы кидались в них камнями, но эти животные ничего не боялись. Ночью крысы ходили по нам; моей сестре, Гале, почти отгрызли фалангу мизинца. Но самые тяжелые испытания остались позади. Каким-то чудом нас нашло папино письмо с фронта — он написал, что жив-здоров, восстанавливает разрушенные мосты на передовой. Немцев уже гнали к Берлину. С Урала стал возвращаться эвакуированный завод, мама вновь устроилась туда на работу. От завода стали строить жилье — четырехквартирные одноэтажные дома на Пионерской. Нам там дали квартиру, и отец вернулся с фронта уже в свое жилье. Постепенно стали обзаводиться хозяйством: появились корова Барыня, куры, поросенок. Вместе с хозяйством пришлось поездить по соседним городам: отца отправляли в Зубцов и Оленино строить льнозаводы.
— Тогда самым страшным для нас, детей, были крысы, — вспоминает Иза Михайловна. — Еду взрослые готовили на костре. Дети собирались кружком во-круг него, а вторым кругом, позади нас, сидели крысы. Мы кидались в них камнями, но эти животные ничего не боялись. Ночью крысы ходили по нам; моей сестре, Гале, почти отгрызли фалангу мизинца. Но самые тяжелые испытания остались позади. Каким-то чудом нас нашло папино письмо с фронта — он написал, что жив-здоров, восстанавливает разрушенные мосты на передовой. Немцев уже гнали к Берлину. С Урала стал возвращаться эвакуированный завод, мама вновь устроилась туда на работу. От завода стали строить жилье — четырехквартирные одноэтажные дома на Пионерской. Нам там дали квартиру, и отец вернулся с фронта уже в свое жилье. Постепенно стали обзаводиться хозяйством: появились корова Барыня, куры, поросенок. Вместе с хозяйством пришлось поездить по соседним городам: отца отправляли в Зубцов и Оленино строить льнозаводы.
Судьба Изы Михайловны сложилась благополучно. По окончании восьми классов девушка устроилась работать на ткацкую фабрику, затем — на завод «Электромеханика», где и проработала до пенсии. Трудовая книжка Изы Копыловой заполнена благодарственными записями и отметками о поощрении за добросовестный труд. Была счастлива в браке, воспитала хорошего сына, сейчас заботится о внуках. Вот только детство, украденное войной, вернуть уже невозможно…
Елена СМИРНОВА