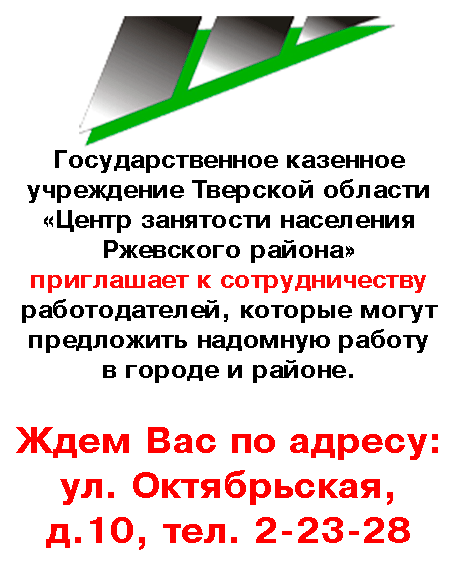Когда закончилась война (Рассказ)

Июнь был в полном разгаре. Бесчисленными жёлтыми пятнами подрагивало в лужах яркое солнце, влажно поблескивали крыши домов, носились по улице вырвавшиеся на волю мальчишки. Старый грузовик, подпрыгивая на выбоинах, миновал центр города, не спеша полз в сторону Слободки. Обогнав одиноко звенящий трамвай с облупившейся краской, полуторка «свалилась» с асфальта и задребезжала по булыжнику. Колька Углов загрохотал кулаком по кабине. Шофёр остановил, Колька маханул через борт на землю, поднялся на подножку, забрал из кузова вещмешок и трофейный чемодан. Хотел проехать остановку на трамвае, но передумал и пошёл пешком. Шёл и вертел головой. Ему казалось, что весь город населён одними женщинами: молодыми, похорошевшими после войны, смотрящими с радостным ожиданием. Что же, он не против, для обеих сторон это будет счастливая встреча!
«Война тянулась четыре года. Без малого. Без сорока дней. А на войне это, ой, как немало! И ранить могут, и убить, и воскреснуть успеешь. Бывало и такое. А сейчас мы — Победители! Каждая жилочка в теле играет. Вернулся молодым, с наградами, и здоровый как-никак, как на собаке всё заживало. Были ребята и безрукие, и безногие, а я-то — молодцом»!
Такие мысли, да ещё то, что с каждым шагом он приближался к своему дому, делало его счастливым огромным, до этого никогда не испытанным счастьем. Во дворе, меж военных развалин, на верёвках латанное бельё, проросла лебеда и даже успела подняться маленькая берёзка. Набежала ребятня, не по-детски серьёзная, окружила Николая. Ему было легко и радостно, когда он вступал в свой двор, но вспомнив о своих сверстниках — скольких ему пришлось перехоронить, стало горько за них, и за друзей, и просто за всех остальных. Многого не узнали они в жизни, и теперь уже не узнают никогда.
Он присел на скамью. Из подъехавшего «виллиса» вылез лоснящийся мужчина. Николай, приглядевшись, узнал его. Митрофан Ильич… А Митрофан Ильич даже не подал вида, что узнал Николая. Да и зачем ему узнавать в молодом и повоевавшем мужчине мальчишку, которому он драл уши за то, что тот со своей оравою когда-то обрывал вишни, протянувшие свои ветви через забор его сада. Выбираясь из машины, Митрофан не удержал в руках «распухший» портфель, и тот упал на землю — вывалилась буханка хлеба, сало, тушёнка и посыпался сахар.
«Не на скудном пайке живёт мужик», — подумал Николай. Митрофан неторопливо собирал продукты. Окружившие его пацаны молча смотрели на невиданное обилие еды.
Митрофан Ильич всю жизнь служил по хозяйственной части, был инициативным служакой, с начальством ладил. Сверстники Николая мёрзли в окопах, умирали, становились героями, а он принимал и отпускал товар. Это всё было, как бы, фасадом, небогатым, скромным и чистым, без единого пятнышка. Свою вторую службу, а точнее деятельность, с помощью которой он «выковал» себе броню, защитившую его от фронта, никогда воровством не считал, да и не брал он чужого, тем более государственного. Он обладал даром посредника в обмене товарами, и если услуги разного рода можно считать товаром, то занимался предоставлением различных услуг, сводя между собой нужных людей. Не бескорыстно, конечно. Но не брезговал и совсем мелкими сделками, помогая обменять муку, сало, картошку на отрез бостона или дамские туфли.
Как ненавидел Николай такую породу людей, его бесило их небрежное отношение к окружающему.
«Они не так ранимы и уязвимы, как я. Они энергичны, предприимчивы, мстительны. Для них не существует трагедий. Поэтому для кого-то они щедры, даже небрежно расточительны. Они не испытывали животного страха под бомбёжками, когда чувствуешь себя последней сволочью, не выжаривали вшей в теплушках и землянках. Чистенькие, розовенькие и лоснящиеся, в шевиотовых костюмах, они могут с презрением обсуждать все ошибки, допущенные нами в лихое время. Но теперь всё будет по-другому».
Николай подхватил чемодан и устремился к своему подъезду. На третий этаж поднимался очень долго, вдыхая знакомые запахи. Упершись лбом в коричневый дерматин двери, позвонил.
— Кто там? — спросили из квартиры.
— Открывай!
— Кто?
— Женька, морду набью! — сказал Углов.
Дверь распахнулась.
— Коля! — завопил парень лет шестнадцати. Из-за его плеча показалась женщина и стала медленно валиться набок.
Потом, когда уже сидели за столом, уставленным гражданскими и военными закусками, пили настоящий «Тархун», а не водку из фляги, Николай закрывал глаза и к чему-то прислушивался.
— Коленька, ты бы лёг, отдохнул, — говорила мама.
— Что ты, ма, не устал я.
Николай вспомнил, как он спал сразу же после Победы. Засыпал, едва коснувшись щекой мешка, а если оказывалась подушка, то и подушки. Это нормально — дело в хроническом фронтовом недосыпе. В первый день он проспал двадцать часов, благо позволяло положение командира взвода разведки, во второй — шестнадцать. И лишь через несколько дней всё пришло в норму.
— Ты как, подчистую? — спрашивал дядя Лёша, мамин брат.
— Подчистую, дядя Лёш, три ранения.
Дядя Лёша понимающе кивал, мама вытирала глаза платочком.
На войне постоянно происходит расслоение, расщепление судеб. Военная судьба — это «матрёшка», девчонка-регулировщица на развилке дорог. Моторы ревут, крик, мат, а она флажками — эти сюда, а эти сюда. Одних — на переформировку, других — на передовую. Одних — в далёкий эвакогоспиталь, других — только в медсанбат. И, наконец, одни ещё живы, других уже нет на свете, и каждый раз ощущение — ведь только что были здесь, среди нас. И думаешь, почему не ты? Опять повезло?
Но оказалось, что после войны действуют те же «законы». Одних подчистую — домой. Другим трубить и трубить. Кто хочет служить — демобилизуют, кто рвётся на гражданку учиться, работать — тех оставляют служить…
— Мам, я к друзьям загляну.
Николай взял с подоконника нагревшуюся на солнце флягу, завернул в газету закуску и вышел на лестницу. И опять в нос ударили с детства знакомые запахи. Ни к кому он не пошёл, а уселся под кустами сирени. Новости по дому разносятся быстро. Из крайнего подъезда вышел Витька Морев и еще издали поднял руку, приветствуя Николая. Пустой рукав гимнастёрки заправлен под ремень. Молча поставил на стол бутылку, положил хлеб с луком, уселся рядом. Вслед за ним пришёл Юрка Бородин — руки, ноги целы, только левый глаз затягивала мутная плёнка.
— Всё, больше некого ждать.
— А Виталик?
— Сгорел в танке этой зимой, в Польше.
— Володя Керосин?
— Вовка тоже не придёт. Погиб на днепровской переправе, а через полгода и тётя Тоня умерла. Да, и чего ты хочешь? Один за другим и муж, и сын…
«А мне мать ничего не писала, оберегала, наверное».
Мелкой дрожью застучало горлышко бутылки о края стаканов.
— Давай за них. За Вовку, за дядю Васю, да и за тётю Тоню.
Николай взял стакан. Он был полон по самые краешки, губы сразу же окунулись в самогон. Он глубоко втянул воздух, как будто собирался нырять, и начал пить большими глотками, не дыша и стараясь не распробовать на вкус. Неожиданно легко опустошил стакан, лишь на последнем глотке икнул и чуть не закашлялся. Самогон остановился в горле, и его запах с такой силой шибанул в нос, но не снаружи, а изнутри, как бы сверху, ото лба, от глаз, что чуть не задушил его. Николай перевёл дух и отдышался.
— Бывает же такое…
Он деловито ел протянутую ему картофелину.
— Лёшка-то Кузнецов жив?
Молчание было ему ответом.
— С кем же мы будем теперь в футбол играть? Как же жить-то теперь без ребят?
Когда стали вспоминать ребят поимённо, показалось Николаю, что мир перевернулся, что глядит он на него своей изнанкой, огромными глыбами земли, перемешанной с железом, и везде мёртвые, мёртвые и ничего живого. Он с трудом отогнал от себя это наваждение…
Из квартиры Митрофана слышалась «Рио Рита», женские и мужские голоса. Там гуляли. Может быть, день рождения, а может быть, от «жира».
«А у нас своя компания, свой стол, и причина совсем другая: мы ещё не за всех погибших друзей выпили из победной чаши».
На костылях приковылял дядя Ваня. Ступеньки дались ему нелегко: на лице гримаса боли, капельки пота на лбу.
— Возмужал ты, Колька! — удивился он.
Николай, улыбаясь, пожал плечами. Выпили, и потекли разговоры про довоенную жизнь, на минуту замолкали, вспоминая тех, кто уже никогда не будет сидеть за этим столом. Общая молодость, одинаковые судьбы заслоняли всё остальное, и главным были не воспоминания — они знали наперёд, что вспомнят всё ещё не раз. Главным было слушать голоса и смотреть друг на друга. Даже дядя Ваня, старше их на тридцать лет, сейчас принимался как свой, из одного окопа.
— Говорят, к нам цирк приезжает!
— Да!? Нужно будет сходить…
Удивительно, до чего сужается круг интересов человека на войне. Там, на фронте, их интересовали, главным образом, сведения о частях противника перед ними, о наличии соседей на флангах. Ради этих сведений ходили в ночные поиски, теряли товарищей, возвращались без «языка» и снова ползли по нейтралке, показывая задницу звёздам, забирались в тыл и, «спеленав» нужного фрица, бережно, как фарфоровую куклу, волокли к своим. Не успел за ночь возвратиться — значит, целый день лежишь на нейтральной полосе, рылом в землю и, вроде бы, бредишь, и сам не понимаешь, живой ты или мёртвый, а пошевелишься — пулемётная очередь. Хорошо, если не заденет, а то вздрогнет всем телом разведчик и затихнет, да ещё этой очередью и «языка» зацепит. Работа почти двух суток — насмарку…
У Митрофана погас свет, затихли музыка и пение. Красные солнечные блики ещё сверкали на окнах четвёртого этажа. Мы вставали с деревянных скамеек, молча прощались в светлых июньских сумерках, ставили под стол опустошённые бутылки. В наших отвоёванных домах нас ждали матери, и хотя закончилась война, нам не хотелось их волновать. Они и без этого наволновались за четыре года. С какой надеждой ждали они наших писем, а мы всегда писали, что у нас всё хорошо, а между строчек и немецкие осколки, и блиндажный огонёк…
Теперь волноваться будем мы по другой причине, по другому поводу: ведь ты придёшь однажды ночью, когда над городом взойдёт звезда.
Николай долго не мог уснуть. Призраки окружали его. Старшина Усачёв из сорок первого года просил позаботиться о жене и дочери. Углов обещал ему и трогал его, уже холодную, руку.
Вот смеялся живой лейтенант Малинин.
— Что же вы испугались? Один рывок, и мы у них в траншее!
И тут же его накрывает разрывом мины. Нет Малинина, и только облачко дыма медленно ползёт в сторону.
Пришли друзья. Виталик, погибший в скоротечной танковой дуэли. Его танк остался чадящим чёрным пятном на развороченном до земли снежном покрывале за Вислой.
Володя Керосин смотрел с высокого берега Днепра на бескрайнюю степь до самого моря. В голубом небе дремлют, свернувшись в клубочки, белые и курчавые облачка, и только на дальнем степном бугре что-то живёт и плавно колышется: то ли ковыль серебрится под лёгким ветерком, то ли диво земное — марево, чуть подсинённое и прозрачное. Струится, струится, струится…
Виктор Булычёв