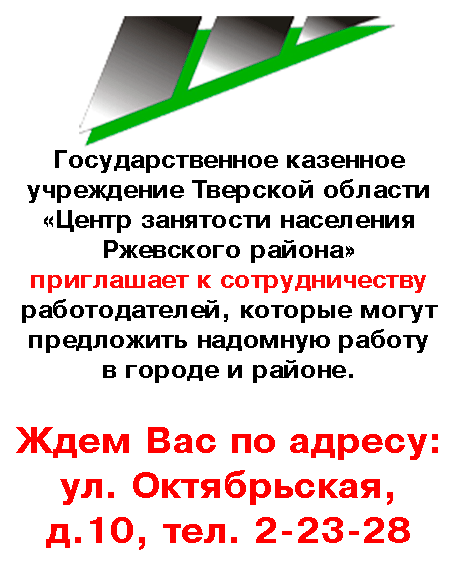Пусть дети не знают войны

Продолжение.
Начало в N№ 31
В прошлом номере мы начали публиковать воспоминания Ленария Морозова «Пусть дети не знают войны». Виктор Алексеевич Морозов, известный в Ржеве предприниматель, автор стихов, пришел в редакцию и принес аккуратно отпечатанные в виде книги воспоминания своего брата. Первая страница начиналась с событий июня-июля 1941 года.
— Мой брат умер несколько лет назад, — пояснил Виктор Алексеевич. — И перед смертью он записал свои воспоминания. Я, родившийся уже после войны, вырос на этих устных рассказах. Прочитал в газете статью Александры Люмэль «У войны не женское лицо» и не согласился с написанным…
Виктор Алексеевич принес и фотографии. На одной — два мальчика в матросской форме и подпись: на память бабушке Кате от внучат Ленарика и Вали. На другой — Петр Цопп… Все фото хорошо сохранились, но и без них описанные в воспоминаниях люди предстают перед читателем четко и зримо. Текст довольно обширный, но тщательно переданные подробности поистине бесценны для нынешнего поколения, даже издали не представляющего, что пришлось пережить их старшим землякам.
В большой комнате стоял круглый стол, накрытый скатертью, венские стулья, в углу слева от окна — комод с бельём, а справа — большой буфет с посудой и стеклянным графином с петухом внутри. Напротив входа в комнату на стене висели большие часы, мелодично звучавшие каждую четверть часа. Спальня бабушки была такой же маленькой и отделялась от большой комнаты перегородкой с завешенной портьерой входом. Я зимой спал на печке, а летом обычно на сеновале. Когда я зимой приходил с гулянья домой весь вываленный в снегу, бабушка всегда говорила: «Пришёл весь дига-дигой». Что это означало — не знаю. Брат Валя тоже спал на печке и однажды с неё свалился со словами: «Вот как лётчики летают!».
С западной стороны к дому примыкал хлев, где стояла корова, жил поросёнок и сидели куры. Из хлева — вход в большой сарай, где находилась столярная мастерская деда с верстаком и токарным станком. Во второй половине этого сарая хранилось сено.
Мне очень нравилось спать на душистом сене. К торцу этого большого сарая был пристроен ещё дровяной сарайчик. Дрова всегда пилились нанимаемыми пильщиками в один размер по мерке.
На покатой, крытой осиновой дранкой крыше этого сарайчика я очень любил сидеть и петь песни про Щорса, Чапаева, матроса Железняка и «Если завтра война». А война уже шла сегодня… Любовь к пению ко мне перешла от матери. До войны, занимаясь домашними делами, она частенько напевала. Репертуар у неё был совершенно другой: «Мы на лодочке катались…», «Яблони были в саду в розово-белых цветах…» и т.п. Она играла на гитаре. Отец тоже умел играть на гитаре, любил песни. Когда перед войной в Ржеве появились граммофонные пластинки Лидии Руслановой, отец после ночной смены бегал в универмаг за ними. У нас был подаренный дедом Петром граммофон с огромной трубой и много пластинок. Всё сгорело вместе с домом.
За забором вдоль дороги дедом были посажены молодые серебристые тополя. В конце поля виднелся сенопункт, куда колхозники сдавали сено для государства. Возы иногда стояли длинной очередью перед участком деда.
Двор перед домом и сараями летом зарастал травкой. В палисаднике под кухонным окном цвели шток-розы и настурции. Там же рос цикорий, из корней которого бабушка делала кофе, добавляя жжёный ячмень. Около калитки был колодец, а у сарая на цепи сидел злой пёс с обрубленным хвостом. Дед Пётр Юрьевич (соседи звали его Пётр Егорыч) был большим умельцем. Он сам собрал детекторный приёмник и через наушники мы слушали радиопередачи. О мастерстве деда знали все в округе. Как-то он ездил ремонтировать паровую мельницу. Перед войной дед подарил мне подростковый велосипед. Я гонял на нём по просёлочным дорогам и однажды, налетев на камень, расколол рулевую втулку. Дед сумел запаять трещину, и я снова катался. В предбаннике у него была слесарная мастерская, где он чинил замки, паял кастрюли, лудил самовары. В столярной мастерской на токарном станке вытачивал разные деревянные изделия. В августе 1941-го на дороге в д. Берёза заглох танк, и водитель не мог его запустить. Позвали деда. Дед Пётр расспросил водителя о принципе работы двигателя и каким-то образом сумел помочь его запустить. Это был единственный танк, который я видел за время войны. Потом мы зашли к деду Кириллу. Тогда я его видел в последний раз. У деда были два улья пчёл. Они стояли в кустах малины под окнами сарая. В нём дед и качал мёд. Рамки со вскрытыми сотами вставлялись в вертушку внутри бака и при вращении мёд стекал на дно бака, а через отверстие струйка мёда шла в бидон. Я любил подставлять палец под эту густую струю и потом слизывать мёд. Любимой моей едой до войны был серый хлеб, намазанный маслом и политый сверху мёдом.
Над мастерской в сарае был потолок, где тоже лежало душистое сено, а в дождливую погоду, когда нельзя было сидеть на крыше дровяного сарая, я забирался на сеновал и в слуховое окно разглядывал в бинокль окрестности. Там же, под крышей, были сложены доски на гроб.
Участок деда был крайним по улице. Дальше шла широкая луговина, на краю которой стояла шора. Это сооружение представляло собой два земляных вала, накрытые крышей из дранки. В обоих торцах были ворота. Осенью из колхозов сюда свозились картофель и другие овощи. За шорой располагался овраг, заросший кустарником, а за оврагом шло поле.
Война приближалась, каждый день напоминая о себе. Я шёл от оврага к дому деда босиком по тёплой мягкой пушистой дороге. Между пальцами босых ног вспыхивали фонтанчики пыли. Было тихое послеобеденное время, когда вся природа отдыхает. Ничто не напоминало о войне.
Вдруг впереди поднялись столбики пыли, раздался треск пулемёта и рёв «мессера», пронёсшегося над моей головой. Фашист развлекался, обстреливая одиноко идущего десятилетнего мальчишку. Позднее в траве у дороги я нашёл гильзу от крупнокалиберного пулемёта.
Я сидел у окошка и смотрел на станцию, когда с востока появилась тройка «юнкерсов». Они сбросили бомбы на станцию, но промахнулись. Три столба земли беззвучно поднялись на косогоре за рекой, а затем донёсся грохот разрывов. В окнах задрожали стёкла. Впоследствии мне много раз снились эти низколетящие самолёты, беззвучной тройкой уходящие к горизонту. Иногда пролетали и наши самолёты. Это были какие-то полуторопланы (их называли «Чайки») и «ишачки» — И-16. Аэродром находился к северу от станции.
Однажды мы услышали пулемётные очереди и вышли на улицу. Немецкий бомбардировщик уходил на юго-запад, а за ним гнался наш И-16. Снова раздался треск пулемёта, и бомбовоз, выпустив струю чёрного дыма, рухнул в лес за речкой. Грохнул взрыв. Некоторые жители посёлка ходили к месту падения самолёта. Приезжали на автомашине и два лётчика. Они остановились у закрытого переезда через железную дорогу, и один из них, капитан, показывая на лейтенанта, сказал, что это он сбил фашиста.
Станцию бомбили не раз. Одна из бомб упала у полотна железной дороги возле водоразборной колонки, но не взорвалась. Мы с дедом ходили смотреть на место падения и заглядывали в проделанную ею дыру в земле. Мы тогда не знали, что бомбы бывают замедленного действия. Выкопали эту бомбу потом или нет, я не знаю. Может, она до сих пор лежит там.
Война приближалась. Как-то вечером на южной стороне небосклона над лесом появилось красное зарево. Говорили, что это горит город Белый. Было жутковато.
Опасаясь голода, дед решил спрятать часть продуктов. В дровяном сарае была выкопана яма, в которую опустили ящик с запасом. Тайник сверху заложили дровами. О нём знали только члены семьи и приятель деда — мельник Мартын, который, в свою очередь, рассказал о своём схроне.
Наконец отец сообщил на станцию, что эшелон с ржевскими железнодорожниками готовится к отправке и нам следует приехать в Ржев. В тот же вечер мы сели в пассажирский поезд. В довоенное время расстояние в 75 км поезда проходили за два с небольшим часа, а теперь наш поезд тащился очень медленно. Почти на каждой станции и полустанке он подолгу стоял, пропуская воинские эшелоны.
Ржев. Сентябрь 1941 г.
Когда мы прибыли в Ржев, то оказалось, что эшелон с нашими соседями уже ушёл, а мы оказались снова под бомбами. Утром, когда мы ещё спали, наш деревянный домишко весь затрясся. Из окон полетели стёкла. Я завернулся в одеяло и свалился под кровать. На кровати плакал Валя, засыпанный осколками стёкол. Мать молилась: «Господи, если ты только есть, спаси нас и помилуй». Оказалось, что бомба небольшого калибра попала в крайнюю квартиру Журавлёвых, которые эвакуировались. В их квартире в это время размещалась часть военной комендатуры и находился там только один дежурный, который вышел в это время на крыльцо дома и остался невредимым. Вторая бомба упала в середину соседнего полупустого дома, и у спавшего в одной из квартир капитана осколком перерезало портупею. Третья бомба попала в конец последнего дома, покинутого жильцами. Жертв от этого налёта не было.
Находиться далее в полуразрушенном доме при постоянных бомбёжках стало невозможно. Эшелоны с беженцами ещё уходили из Ржева, но ехать в неизвестность с незнакомыми людьми мать отказывалась, и тогда отец отправил нас в сторону Москвы к своему знакомому начальнику станции Княжьи Горы, с намерением захватить нас с собой при отступлении. Но этим планам не суждено было сбыться.
Станция Княжьи Горы. Деревня Шоша. Октябрь-декабрь 1941 г.
Мы благополучно добрались до Княжьих Гор. Выгрузили свой сундук и прочие узлы. Начальник станции оказался представительным мужчиной с чапаевскими усами. Одну ночь мы переночевали у него в таком же, как наш, железнодорожном доме. Немцы теперь постоянно бомбили все станции подряд, и оставаться рядом с железной дорогой было опасно, поэтому начальник станции отправил нас в деревню Шоша, километра за два-три. Приютила нас женщина, жившая одна в доме. Мать помогала ей по хозяйству, что-то шила. Кормила нас хозяйка. Жили мы в ожидании прихода отца.
Шёл уже октябрь. Снег начал покрывать поля. Вместе со снегом на поля сыпались разноцветные немецкие листовки, призывавшие русских солдат сдаваться. В один из дней под вечер чёрный дым поднялся над лесом в стороне разъезда Обовражье. Горели склады с зерном, которое не успели вывезти на восток. Люди из деревень ходили на разъезд, набирали полуобгоревшие зёрна в мешки и растаскивали по домам. Это тоже был хлеб.
…Немцы появились ранним утром. Они неторопливо, по-хозяйски, шли по деревне, заглядывая в каждый двор и дом. Было их немного. Видимо, основная масса войск проходила где-то стороной. Мы осторожно из-за занавески выглядывали в окно. Один солдат в каске и с винтовкой за плечами завернул к нам и вошёл в дом. Первыми его словами были: «Матка! Яйко, млеко, шпек». Хозяйка дала ему молока.
На улице другие немцы гонялись за курами с шомполами в руках. В соседнем сарае стоял колхозный бык. Немцы вывели его во двор и один из них выстрелил из винтовки быку в лоб. Жители деревни горестно смотрели на этот грабёж. Так началась оккупация. Забрав награбленное, немцы ушли из деревни, и наступило затишье.
Однажды днём со стороны недалекого леса раздалась песня: «Полюшко, поле…». Вся деревня высыпала на улицу. «Наши! Наши пришли!» — раздавались радостные голоса. Но песня кончилась, послышался хриплый голос с немецким акцентом: «Русский зольдат! Сдавайсь!» Люди понуро стали расходиться по домам.
Потянулись на запад в родные места не успевшие эвакуироваться беженцы. Мать выходила на улицу, разговаривала с людьми, пытаясь найти знакомых или земляков. Такая семья нашлась, и мать передала с ними деду Петру записку с нашим адресом.
Деревня Шоша была большой. Сейчас от неё остался десяток торчащих в разных местах домишек.
Продолжение следует
Ленарий Морозов