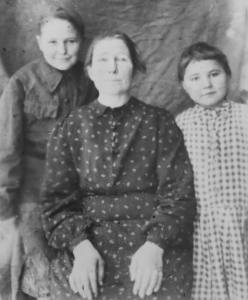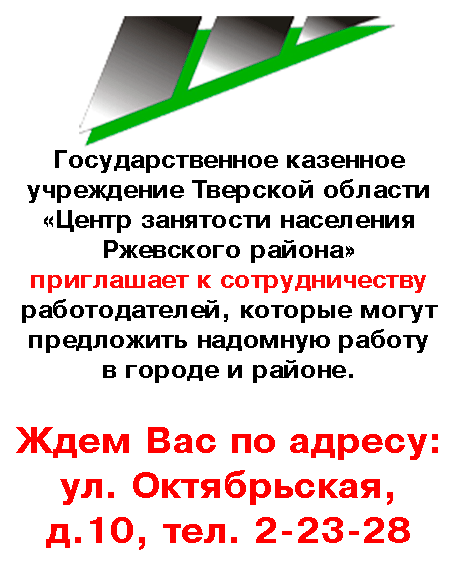«МОЛИТЕ БОГА, ЧТОБЫ ПРИШЁЛ Я ДОМОЙ»
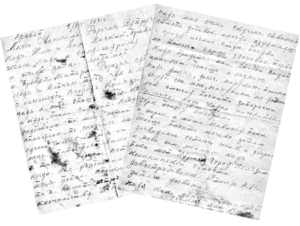
Письма с фронта — документальные свидетели войны. Простые, бесхитростные строки, полные любви к жизни, они напоминают нам о том, что нельзя забывать в суете повседневных буден. Письма с фронта — живые строки войны, это голос издалека, голос, который отзывается в наших сердцах. Выцвели чернила, истерлась бумага, но и в таком состоянии фронтовые письма — документ огромной силы.
Многим ли из вас, читающим эти строки, довелось лично держать в руках те самые солдатские письма, довелось ли вчитываться в исчезающие на потертой бумаге строки неизвестного бойца? Думаю, единицам.
Сегодня хочется рассказать о трагической судьбе нашего земляка, которую и поведали те самые солдатские письма.
В 2019 году, работая в поисковой экспедиции в Ржевском районе, в деревне Висино, в заброшенном и практически разоренном вандалами в поисках металла доме наткнулись на большое количество разбросанных по всему дому книг, журналов, газетных вырезок, открыток по военной тематике. Их было очень много! Чувствовалось, что читали и перечитывали их помногу раз. В этом доме проживал некогда ветеран труда из колхоза имени Кирова Александр Столяров, 1930 года рождения, с семьей.
На момент окончания ВОв ему исполнилось 15 лет. Отец не вернулся с фронта, и судьба его была неизвестна. Всю жизнь Александр Васильевич искал в книгах, журналах, газетных публикациях какую-либо информацию об отце, надеясь встретить родную фамилию… Не нашел… Так и ушел из жизни несколько лет назад…
На глаза попалась брошенная за ненадобностью варварской рукой красная клеёнчатая папка. Открыв её, обомлели: это были письма с фронта! Как реликвию хранили их в семье…
Вот о них и пойдет речь далее.
В деревне Рогово Дурневского сельского совета проживала семья Василия Столярова 1903 года рождения. Жена — Надежда, двое детей, одиннадцатилетний Саша и трёхлетняя Зина, и престарелая мать. Как известно, мужчины призывного возраста уже с первых дней войны были призваны в ряды Красной армии, в том числе и Василий Никанорович. В его письмах прослеживаются первые дни мобилизации (публикуем их с сохранением орфографии).
«Дорогая супруга Надя. Я со Ржева отправился пешком на город Старицу, а потом на Калинин. Но я не дошел до Калинина верст пятьдесят. Сел на машину на грузовую и доехал до Калинина за один рубль, а моя команда идет пешком и повозка с сумками. Нас гонят пешком до города Калязин. Кормят нас редко. Только покормили в Старице, а так своими кусками».
«Когда нас разбивали, то меня хотели назначить в пекарню, но оказался я лишним. Иду в строю. Когда разбивали, кого куда, я попал в пулеметчики. То вышел я из строя и подошел к начальству и показал руку. То меня назначили возить пулеметы на лошади. Я теперь ухаживаю за лошадью».
«Каюсь, что я не взял полотенца. Нам пока ничего не давали, ходим во всем своем. Но спать плохо на полу на голом».
Из писем можно узнать судьбу призывавшихся с Василием Никаноровичем земляков. Мы проверили некоторые фамилии по ОБД, многие числятся так же пропавшими без вести. Например, Петр Пырькин из села Поганьково (в настоящее время деревня Новосадовая Итомлинского сельского поселения).
«Пешком с командой идет Андрей наш Сергеевич. И Ваня Нестеровский, Филин, и Сема Нестеровский. Я вижу Иваныча и Мишку Радюкинских… Дорогая Надя, я ноги пока не стер, а Андрей за-хромал».
«Я когда был в городе Калязине, то видел свояка Костю. Когда я поздоровался с ним, то он говорит мне: «У вас сегодня Илья, а угостить нечем. Вина нету». Так я с ним посидел, и так и пошел я. В Илью ничего не делал, пас коней».
…«Надя, я вижу токо сотоварищей: два Покровских, один брат содвоюродный, Бабинский Леша, и Вася Соколов, а дальше Поганьковкий Пырькин (Петр)».
Эти фронтовые письма для нас бесценные свидетельства живой социальной истории. На фронт уходили парни и девушки из разных социальных слоев, и воздействие войны на них тоже было разным — письма горожан и селян отличаются стилем. Василий Никанорович был простым сельским тружеником, любящим мужем и отцом. С особым трепетом обращался Василий к своей жене, детям, матери.
«Многоуважаемая Дорогая Супруга Надя. Шлю я вам низкий поклон: жене Наде, и сыну Шурику, и дочке Зинке любимой и привет матери и теще».
«Добрый день, дорогая семья! Дорогая Супруга Надя и дети мои, сынок и любимая дочка Зинка. Дорогая супруга Надя, я очень скучаю о вас, а как повидать, не знаю… Все время думаю о вас».
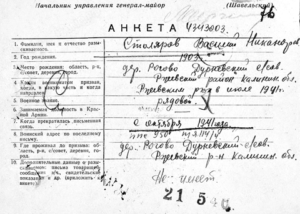 Василий описывает жизнь местного населения на территориях, не занятых пока еще фашистами, там, где находится его часть. Но в то же время думы и тревоги о семье… Постоянно звучит озабоченность положением своей семьи, судьбой хозяйства, тревогой о жизни и здоровье родных и близких.
Василий описывает жизнь местного населения на территориях, не занятых пока еще фашистами, там, где находится его часть. Но в то же время думы и тревоги о семье… Постоянно звучит озабоченность положением своей семьи, судьбой хозяйства, тревогой о жизни и здоровье родных и близких.
«Пишу письмо на чистом поле, около ржаных снопов. Вокруг лесу нету верст на сорок. Если спросят, то я в Орловской губернии».
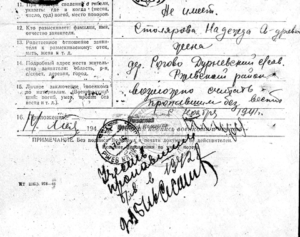 «Надя, наши сдали город Смоленск. Где я нахожусь, жители пока не уезжают, жнут рожь. Говорят, не поедем, что будет. Я сумневаюсь об вас, как вы будете жить дальше. Фронт к вам все ближе. Наверное, придется выселяться».
«Надя, наши сдали город Смоленск. Где я нахожусь, жители пока не уезжают, жнут рожь. Говорят, не поедем, что будет. Я сумневаюсь об вас, как вы будете жить дальше. Фронт к вам все ближе. Наверное, придется выселяться».
«Надя, пиши, как вы живете. Как жив пока поросенок и бычок. И как ты сдаешь молоко госпоставки».
«Пока я сыт до горла, а дальше, что будет. И дают сахару. Только у меня нету близко Зинки, я её кормил бы сахаром… К сожалению, далеко».
Обращает на себя фатализм находящего на фронте сельского труженика. Василий Никанорович, очевидно, был по своей натуре очень добрым, сентиментальным человеком. О его психологическом состоянии можно судить по строкам, полным горестных дум и переживаний.
«Дорогая Надя, я очень скучаю о тебе и детишках. Сижу все время задумавши… И слезы протекут, и утру я их. Только плакать нельзя. Все время с людьми, совестно».
«Дорогая Надя! Молите Бога, чтобы пришел я домой, хоть калека. Но, может, совсем не приду».
Абсолютно во всех письмах сообщение о том, что жив, сопровождается указанием на временность этого состояния, на вероятность иного исхода.
«Надя, а придется нам с тобою видеться или нет, не знаю. Сколько я не лежу, а придется бой принять. А жив буду или нет — судьба предскажет. Посля…»
«Надя, придется нам с тобою видеться или нет, не знаю. Иногда вздумаешь и сразу из глаз слезы текут, только сердце здоровое терпит».
290-я стрелковая дивизия, куда и попал Василий Столяров со своими земляками, была сформирована в июле 1941 года в Калязине. К концу июля 1941-го дивизия была укомплектована личным составом за счёт призывников Калязина и близлежащих районов. Личный состав дивизии на этот момент насчитывал 10902 человека, это на 3,5 тысячи меньше, чем положено по штату.
В составе 290-й стрелковой дивизии Василий Никанорович оказался на фронте в самое тяжелое для Красной армии время.
Оружие получили на станции Сельцо Брянской области, по пути на фронт. Там же, под Брянском, бойцы дивизии практически в первом бою понесли многочисленные потери. Тысячи солдат и офицеров пали на поле боя. Судьба 50-й армии, в которую входила 290-я сд, сформированная на Калининской земле из мобилизованных жителей разных районов, в том числе и Ржевского, трагична.
По данным оперативной сводки № 125 Верховного командования сухопутных войск (вермахт) от 18.10.1941 г.: «В ходе уничтожения 50-й армии взято в плен 55105 человек».
5 сентября 1941 года Василий Столяров был пленен в районе Брянска, на реке Десна (приток Днепра). Находился в концентрационном лагере «Штатлаг III», Луккенвальде, местечко на земле Бранденбург, недалеко от Берлина. Спустя четыре месяца, 8 января 1942 года, погиб в плену и захоронен в братской могиле на территории бывшего концлагеря. Это нам удалось установить и сообщить ныне проживающим в Москве внукам и правнукам Василия Никаноровича, которые ничего не знали о судьбе своего деда.
Наталья БЕЛОЗЁРОВА